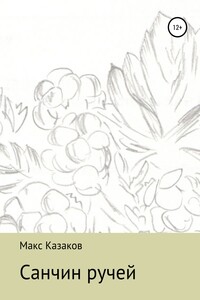Родные мои… | страница 6
Но долго злиться Любка не умела. Не привыкла просто. Ты попробуй позлись. Чуть задумаешься, Никифор Степанович сзади подойдет, в ухо дыхнет жарко: Любовь Васильевна, без причины нет кручины, где болит, где болит? — и ну щекотать ее. Она ему тут же все и выскажет.
И Нинушке она не удержалась, высказала.
— А куда мне его девать, — сразу чуть не в голос заревела сестра. — Тут он хоть при мне. Ты вот одна осталась, дак одна. Я с троими. Всю-то жизнь мне счастья не было, — начала причитать она, — без мамоньки, да на чужой стороне. Все счастье ты себе забрала, Любка. — Сестра будто бы успокоилась. — Всю жизнь за стариком своим как за каменной стеной. А мой-то ведь пил и бил меня. Ой, да почто же я мамоньки родной не послушалась, не велела она мне идти за него. — И Нинушка снова заревела.
И Любка, не понимая с чего, заревела. Никогда сестра про жизнь свою такого не говорила, по матери так не причетывала. Приезжая в Молвинск, хвалилась всегда, изредка подарки дешевенькие привозила, мать как-то стыдливо совала ей кой-какие деньги, вырученные за овощи да молоко на базаре, она брала их вроде бы нехотя.
Наревелись сестры всласть. И решили Мишку маленько укоротить, но при себе держать. Парню осенью в армию, пусть уж доболтается.
За все время впервые пригляделась Любка к сестре. И совестно ей стало. Сама-то она еще молодая, кровь с молоком, как все говорят. И хозяйка себе. Нинушке-то каково. Всю жизнь в горячем цеху отстояла, квартиру только перед пенсией дали, а уж если мужик пил, хуже этого нету. Круги у нее под глазами синие, на бордовом-то лице. Сама худющая, спина, как у матери в последнее время, коромыслом. Эка невидаль, балбеса укоротить. Эко горе, в чулане спать. Холода подойдут, дак на печь перебраться можно.
Балбеса она не укоротила. Не умела. Она ему слово, он ей десять. Злобится да насмехается. На это бы наплевать. Куры начали дохнуть. Неуж, подлец, потравил? Нинушке и намекнуть не посмела. Сестра после того разговора на Любку как-то коситься стала. Вальке-то учиться пора. Спросила у нее Любка про учебу. Валька ответила, что в школу она нынче не пойдет, в третий класс ее определили, а она уж отсидела в нем, и перестала даже изредка улыбаться Любке.
А на весь урожай в огороде вши какие-то напали и гниль. Тут уж винить неизвестно кого было.
И на печь она не перебралась. Не успела. Октябрь стоял теплый. В чулане было терпимо. Одна стена горничной голландки выходит туда.
Ночью Любка проснулась от холода. Насколько могла, подтянула коленки к животу, свернулась на раскладушке эдаким сдобным калачом. Озноб не проходит. И мороза, кажется, большого на улице нету. Только чистая свежесть идет в маленькое зарешеченное окошко чулана. Дотянувшись до стула, где лежит фуфайка, Любка накинула ее поверх стеганого одеяла. Уже в полусне подумала, что могла бы на кухню пойти, на печь забраться. Да потревожишь Вальку, у самой двери спит девчонка.