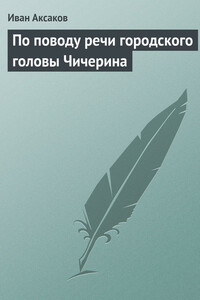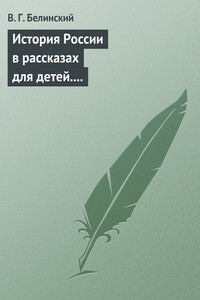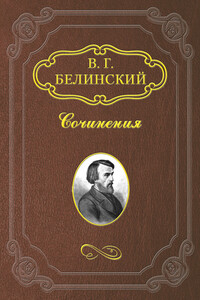Любите людей: Статьи. Дневники. Письма. | страница 125
Пусть будет больше и больше очерков о «наших достижениях»! Мы мечтаем прочитать очерки о молодежи, устремившейся на освоение целинных земель, документальные книги-летописи о великих стройках на Ангаре и Иртыше, очерки о зарубежных странах и народах, подобные очеркам П. Павленко об Италии, Ильфа и Петрова об Америке, С. Образцова о Китае и т. д. Но напомним, что вслед за поэмой «Хорошо!» В. Маяковский собирался писать поэму «Плохо», бичующую наши недостатки. Иногда «жертвой великому делу» называют неправомерное нанесение простому человеку обид и ущербов, нежелание по-настоящему заботиться о нем. А ведь когда приходит срок, простой человек всегда оказывается на высоте положения, у него хватает собственного разума понять, где правда, и вступиться за нее всем народом… Так не будем же холодно, чистоплюйски пренебрегать ни единым «частным» (но все же массовым по значению) явлением жизни.
В связи с этим встает еще один важный вопрос. Очерк, как известно, в силу своих специфических черт предоставляет писателю широкую возможность самовысказывания. Этим своим качеством очерк близок — как ни покажется это на первый взгляд удивительным — лирическому стихотворению. Например, один из классических очерков — «Певцы» И. С. Тургенева. Это не только высокопоэтическая, верная действительности «зарисовка», но как бы лирическая исповедь художника, захваченного чудом народной талантливости. Полноправным действующим лицом здесь является сам автор.
Вызывает возражение мысль Мариэтты Шагинян, высказанная ею в предисловии к книге «По дорогам пятилетки»: «У классиков русского очерка… момент личного раздумья, начало описательное, философско-лирическое преобладало над тем, что мы называем «оперативностью», то есть быстрым и непосредственным воздействием на жизнь». Хочется заступиться за классиков. Наличие в их очерках личного раздумья, философско-лирического начала не только не может быть противопоставлено «оперативности», но, наоборот, тесно с нею связано. Это придавало классическому очерку ту недостижимую силу, которая делает его образцом жанра. «Оперативность» тогда называли иначе. Но, однако, вспомним, каким залпом по крепостничеству были «Записки охотника» И. С. Тургенева, как моментально отзывался на «русские дела» А. И. Герцен, и сколь многое в России (вплоть до политики царского двора) зависело от его «философско-лирических раздумий». А гениальные сатирические очерки Щедрина с их не снящейся нам «оперативностью»! А Глеб Успенский, про которого Короленко писал: «То, что еще только мелькало впереди смутными очертаниями будущей правды, — за тем он гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится в душе в ясный, самодовлеющий образ. Он пытался обрисовать его поскорее для насущных потребностей данной исторической минуты…»
Книги, похожие на Любите людей: Статьи. Дневники. Письма.