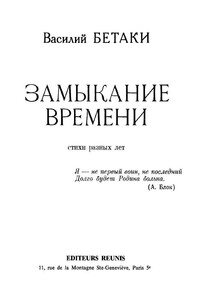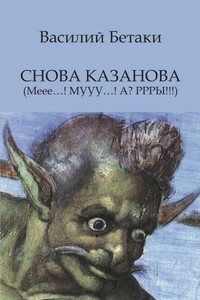Русская поэзия за 30 лет (1956-1989) | страница 64
Вот что, примерно, я подумал, открыв вдруг для себя Юрия Левитанского только в начале 80-х годов…
Первое впечатление — странное ощущение от предельно скупого словаря. И вместе с тем — стихи вовсе не краткие миниатюры. Противоречие? Да. Ясно, что при таком условии слова должны всё время повторяться… Одни и те же. Да. Формально они и верно одни и те же, а на самом деле — все время разные: на протяжении одного стихотворения, повторяясь, они всё время меняют контекст, становятся все в новые и новые позиции — слова оказываются каждый раз под другим углом, они играют оттенками множества неожиданных граней… Из повторяемости приходит стереоскопичность.
И почти незаметное, медленное продвиженье,
Передвиженье медленное, на семь слогов,
На семь музыкальных знаков передвиженье,
На семь изначальных звуков, на семь шагов…
И дорога в горы, где каждый виток дороги
Чуть выше, чем предыдущий ее виток,
И виток дороги — еще не итог дороги,
Но виток дороги важней, чем ее итог.
Знаю я только одного еще поэта, способного на такое — Леонида Мартынова…
Эти стихи могут быть и о дороге, и о творчестве, и о любви — тема совершенно неважна, канва тут — дело читателя: вложи сам, какую почувствуешь.
А этот ритм, плывущий и вместе с тем спотыкающийся — в гору — поведет нас.
Он и есть главное «содержание» стихотворения.
В том то и дело, что этот ритм — не «форма». Он неслучаен.
И в другом стихотворении Левитанский сам нам говорит, что надо только быть внимательнее и вчитаться, чтобы ничего случайно «не пролистнуть нетерпеливою рукою»
…
Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас,
За то, что суетно так жили, так спешили,
Что и не знаете, чего себя лишили,
И не узнаете, и в этом вся печаль…
И в последних уже строках:
Мне тем и горек мой сегодняшний удел,
Покуда мнил себя судьей, в пророки метил,
Каких сокровищ под ногами не заметил,
Каких созвездий в небесах не разглядел…
Поэзия для Левитанского — противовес спешке века. Тут Левитанский перекликается с Андреем Вознесенским, поэтом следующего поколения, позднее писавшим в поэме "Оза":
Некогда, некогда, некогда,
В офисы — как в вагонетки,
Быть человеком — некогда…
Но Вознесенский сам мечется и мчится внутри этого потока летящих минут, а Левитанский — словно бы стоит среди стремнины, упираясь, чтоб течением не снесло. Твердо стоит. Надо оглянуться, надо вдуматься — вот единственное противоядие торопливости ХХ века.
Безумного века, безумного мира, где всё тонет и тонет «Титаник», совсем недавно бывший символом сверхцивилизации: