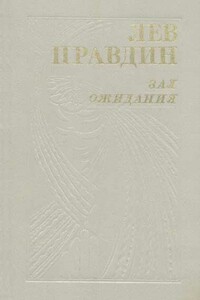Старослободские повести | страница 11
Только нет: никогда у нее не повернулся бы язык, чтобы осудить мать, что приучала она ее, Варю, с самого детства принимать жизнь так же просто и доверчиво, как принимала сама.
С детства знавшая, что такое нужда, Прасковья потом всегда была довольна жизнью: угол есть, хлеб соль есть, одеты и обуты, сами здоровы — что еще человеку надо? И не любила мать людей хитрых, завистливых или жадных — не любила и не привечала. А сама: спросят люди, сколько, мол, они с отцом мер ржи или там проса намолотили, — всегда столько назовет, сколько есть. Эта извечная крестьянская хитрость у многих есть: скрыть, сколько намолотили, сколько сена в сарае, сколько картошки или бурака накопали... А мать никогда не понимала этого: зачем, мол, скрывать, не чужое ведь, свое.
Не помнила Варвара, чтобы не подала мать кусок хлеба нищему или не одолжила кому, пусть даже из последнего. «Бедного человека не корысть — нужда посылает просить», — говорила она, принимала беду другого человека, как свою, и старалась помочь.
Прасковья не раз говорила уже взрослой Варваре, что хотела еще иметь детей. Ездила она и с отцом и одна в город к какому-то там врачу, он ее лечил — да не помогло. Потом по совету одной бабки-знахарки пробовала она лечиться травами. Много их перепробовала Прасковья, но и они не помогли.
А травы с тех пор собирать пристрастилась. Всегда у них стены в чулане были увешаны разными пучками да узелками.
Весной, когда движется сок, набирала Прасковья березовых и тополиных почек, с крушины, калины и дуба надирала коры. Летом, в самый цвет, сушила шалфей, ромашку, липовый цвет, мягкую горькую полынь и мяту, собирала и сушила черемуху, крушину, малину. «Травы, как и люди: одни добрые — и зверям и людям от них добро; другие — злые... Вот я добрые и собираю», — скажет, бывало, она. На Ивана-Купалу, перед первым покосом, мать на целый день уходила из дому. Этот день она считала самым лучшим для собирания трав. «Об эту пору они в самом соку, — поясняла она. — Теперь сорвешь — самые пользительные». И приносила из леса «брата-с-сестрой» (как в их местах называют ивана-да-марью), с лугов — желтоголовую купальницу, одолень-траву — и все эти купалинские травы вешала у себя в чулане.
И как-то само собой получилась из Прасковьи деревенская лекарша. Одному их своих запасов даст травы или сушеных ягод и растолкует, как лучше ими пользоваться, другому сама отвар приготовит. Люди попривыкли, стали ходить к Прасковье и с тем, где никакая трава не нужна: из глаза глубоко засевшую остинку вынуть, вывих вправить. И мать бралась. И веко умела вывернуть так, что любую соринку находила, и вывих вправляла как-то легко, без боли. «Прасковья — она сама чуяла, где человеку больно», — до сих пор вспоминают о ней старые люди.