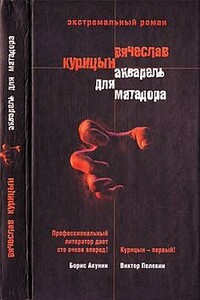7 проз | страница 42
И Фридрих, никогда не веривший, что сказки сбываются, столкнулся со сбывшейся: лицом к лицу, телом к телу. И - опять-таки тривиальный сказочный ход - Наташа его расколдовала: она вытянула из него своей любовью ответную любовь. Она сделала то, чего не смогла сделать вся предшествующая жизнь: он впервые стал адекватен: абсолютно, вне-контекстуально. Они придумали друг другу настоящее чувство, и оно пришло. Падали тяжелые яблоки, зачастили какие-то придурковатые дожди. Осень, наверное. Почему-то цвели тюльпаны, дочери звали отца. Фридрих и Наташа прерывали объятия глухими рыданиями, день отъезда приближался со скоростью слез. Мы не умеем описать чувства в цветах и красках, ситуациях и диалогах; проще объяснить это отсутствием у нас литературного дара, труднее, но справедливее тем, что самим нам такие чувства неведомы.
Наташа остаться не могла: Сергей Юрьевич скорее бы съел маркшейдерский хренотопсель, чем согласился бы бросить девочку в лапах любовника-авангардиста. Фридрих не мог поехать: в России его модернистская репутация обеспечила бы чекистскую пулю не только Орфу, но и притащившему за собой эдакий хвост Верещагину. Оппозиция пребанальнейшая, переходящая из романа в роман, из эпохи в эпоху, из пустого в порожнее, возобновляемая на каждом витке с такой неизбежностью, что возможность художественно полноценного ее разрешения кажется практически невероятной, а потому именно на этой трагически-неразрешимой ноте удобнее и логичнее всего завершать повествование. Да, Фридрих и Наташа рыдали на перроне бесконечными слезами, да, их растаскивали по сигналу последнего гудка, будто разрывали круг инь и ян, да, экспресс Берлин - Рига отразил на прощание блестящими окнами все, что надлежало ему отразить: мокрые вязы, лоток, носильщика, провожающих с носовыми платками, циферблат, голубей, перечеркнутое проводами небо...
Но мы - продолжая удерживаться в санях честных биографов - не можем поставить здесь точку. А вернее - не мог поставить здесь точки Орф, он был все-таки слишком по-другому воспитан. Он был чужд эстетике вечной разлуки, песни Сольвейг и бесконтактной любви до гроба: уже не к человеку, а к собственному сдавленному крику вслед уплывающим (в Россию) облакам. Эта эстетика казалась ему (и поделом, заметим, казалась) гигантской уловкой, единой фигурой умолчания, скрывающей за красотой поднебесной песни тривиальное неверие в бесконечность земной страсти. Нет, Орф не был так наивен, он понимал, что неверие это обеспечено тысячелетней эмпирикой да и, господи, элементарной способностью к более-менее трезвому взгляду "на вещи". Но раздражал метод; раздражало желание упаковать свое неверие в яркие карамельные фантики веры, раздражала собственно красивость, маскирующая бессилие, раздражала хорошая мина при невозможности игры. Транслировать в сторону гипотетической России морзянку рулад, упиваясь драгоценным опытом уготованного для музея чувства, - это было бы слишком пошло. Такой финал равнялся бы творческой импотенции. И в тот момент, когда чужие руки разорвали их объятия, Фридрих шепнул Наташе, не шепнул - прохрипел: "Я приеду".