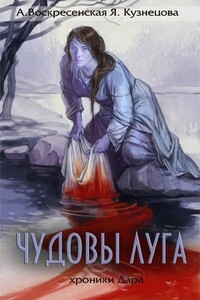Тьма моего сердца | страница 20
— Молчал не я. Молчал Король-Ворон.
Проклятье! Два года ты жил под моей крышей, Анн, и я ведать не ведал, кто ты есть такой. Как бы мне было узнать в потертом, сером от пыли и пепла наемнике Энери-Звезду — любимца женщин, идола молодежи, завсегдатая турниров, блестящего поэта и рыцаря, лорда Перекрестка и наследника трона? Преступника и мятежника, пропавшего без вести в бою под Маргерией? Когда это все произошло, мне едва исполнилось десять лет.
Но с меня и взятки гладки, сказал Король-Ворон. С Раделя тоже. Что стар, что млад, сказал Король-Ворон, один не признал изменника по молодой беспечности, второй — по старческой немощи.
А вот сам Ворон Энери узнал. И чуть не рассек его пополам в поединке. А потом потащил меня к себе в Химеру, вручил сереброволосого мальчишку и велел отвезти отцу.
Анарену. Энери-Звезде, наставившему ему рога.
Примет ли Верховный король в Катандеране мятежного сына? Да еще с внуком-бастардом? Вряд ли. Вряд ли… Пять лет войны, когда вся страна перегрызлась насмерть, мало помогают укреплению родственных чувств.
Ну, это не мне решать. Пусть решают высшие лорды, совет, короли — а мы с Раделем люди маленькие. Мы как сидели в лесах, так в лесах и останемся. Мы вон даже великих мира сего в глаза не признаем. Одичали совсем.
— Дикени.
Он похлопал здоровой рукой по постели, я подошел и сел.
— Ты теперь тоже… изменник, — он все еще тяжело дышал. — И Радель твой.
— Радель ничего не знает.
— Но у него же…
— Бастард Короля-Ворона.
— Ясно. А сам Ворон?
— А кому придет в голову обвинять в измене короля Найфрагира?
— Так или иначе.
— Анн, не надо о нем беспокоиться.
— Энери, — мягко поправил Лавенг, — Меня зовут Энери. Мне осточертело это прозвище.
— Извини. Я хочу сказать, Ворон не беспомощен.
— Он — да. А ты — нет. Ты укрыватель.
Я встал.
— Ну, вот тебе еще один изменник за компанию. Чтобы не скучно было. Выздоравливай. Я пошел спать.
Анарен Лавенг вздохнул и прикрыл ладонью глаза. Я еще посмотрел на него — на руку его, когда-то аристократично-тонкую, а теперь превратившуюся в прозрачную костлявую лапку, обмотанную узлами вен, на перстенек из белой платины, который он раньше носил на мизинце, а теперь переместил на указательный, на едва зажившую ссадину под скулой — и когда успел оцарапаться? — на длинную как у подростка шею, на перечеркнутые бинтами ключицы. На веер сияющих волос, широко рассыпанных по подушке и ничуть не потускневших от болезни.
Что-то не так.
Что-то изменилось. Я ощущал преграду между нами, стеклянную стену, невидимую, но несомненную. Я был здесь — а он там.