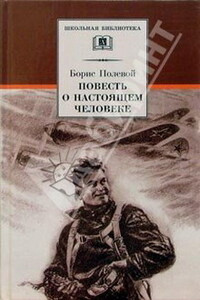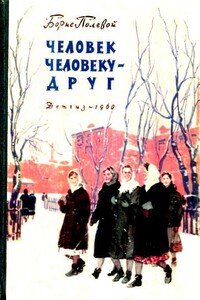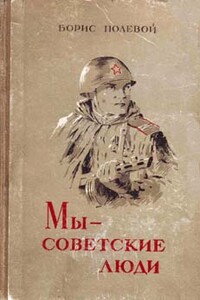Первопроходцы | страница 104
Не только механика привлекала Ивана Попова — Вениаминова. Вторым излюбленным его занятием было чтение. Он стал постоянным и усердным посетителем семинарской библиотеки. Юноша буквально проглотил многотомное сочинение "О тайнах древних магиков и чародеев", переведенное с немецкого В. Левитиным. Увлечение механикой и книгами сочеталось с интересом к естествоиспытательству, различным опытам и хитростям вроде способов узнавать время посредством опущенного в стакан с водой кольца и т. п. За печкой в комнате, где жил юный умелец, появились водяные часы, сделанные при помощи ножа и шила. Циферблатом служила четвертушка бумаги, стрелкой — лучина, а вода была налита в берестяной туесок. Она капала в прикрепленную к туеску жестянку, и каждый час колокольчик ударял по одному разу. Изготовленные таким хитроумным способом часы вызывали у семинаристов смешанные чувства удивления и зависти, "так как многим в то время в Иркутске не доводилось видеть никаких часов вообще, по редкости их".
Вторым "изобретением" юного мастера стали солнечные часы. Более простые в изготовлении, они затем распространились и у других семинаристов.
После окончания курса Иван Попов по старой семинарской традиции получил новую, "благозвучную" фамилию — Вениаминов, в память о епископе Вениамине, первом православном миссионере в Якутии. Таким своеобразным способом семинарское начальство отметило успехи выпускника Ивана Попова, его яркие способности.
После окончания учения Иван Вениаминов был определен дьяконом иркутской Благовещенской церкви, а четыре года спустя получил сан священника. Но и став священнослужителем, Вениаминов продолжал заниматься механикой, делал для продажи не только часы, но и музыкальные механические органчики.
Иркутский период, можно сказать по определению биографов и самого ученого, был самым спокойным и в его жизни. Именно в Иркутске, этом красивейшем из сибирских городов, он женился по любви и его молодая жена Екатерина Ивановна родила ему первенца.
Перелом в жизни семьи произошел внезапно. В начале 1823 года в Иркутск пришел указ Синода о том, что один из здешних священников должен поехать на Алеутские острова. Эта весть буквально ошеломила церковный клир. Как свидетельствует биограф Вениаминова, "никто и помыслить не мог о поездке туда, потому что в те времена Америка и Камчатка страшно пугали деспотизмом правителей".
И тогда искусный в делах церкви архиерей Михаил нашел остроумный выход из затруднительного положения. Он призвал четырех дьяконов и спросил их — согласны ли они ехать в Русскую Америку? Никто не решился. Бросили жребий. Его вытянул соборный дьякон Малинин. Но страх его перед дальней дорогой, трудностями плавания через океан, жизнью в суровом, холодном краю оказался настолько велик, что он предпочел отказаться от сана и заявил: "Лучше пойду в солдаты, чем поеду в Америку!" Несчастный не смог вынести до конца всей двадцатипятилетней тяжелой солдатской службы и на шестнадцатом ее году скончался под Красноярском.