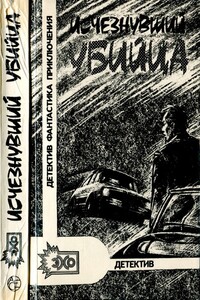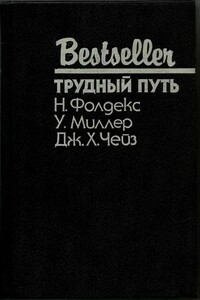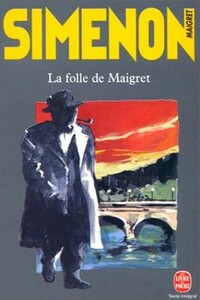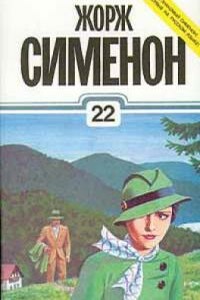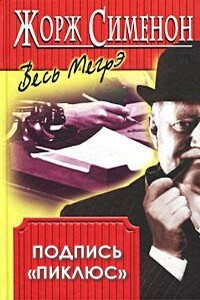Волчьи ягоды | страница 112
— Сколько раз вы так вот пропускали машины?
— Может, десять, может, двадцать. Не записывал.
— Многовато, выходит, было четвертаков.
Локотун прижмурился на солнце и оглушительно чихнул.
— Хоть и говорят люди, когда чихнешь: ваша правда, а оно не так, потому что, если бы он, сукин сын, давал каждый раз... Где там? Когда сунет, а когда только посулит. Ходишь за ним и канючишь. Я на Полякова что угодно подпишу. Очень я на него злой.
«Поляков... Куда ни кинь — всюду он, — озабоченно думал Ремез. — И на самом деле первая скрипка. Играла, пока не доигралась. Но сколько же людей успел втянуть в преступную игру!»
Из документов, изъятых Котовым во время обыска, он знал, что в годы немецко-фашистской оккупации Поляков служил во вспомогательной полиции на Киевщине. Отбыв наказание, долгое время жил на Севере. Переехал сюда. Работал на мясокомбинате, уволился по собственному желанию и несколько месяцев был без работы. Потом устроился на трикотажную фабрику. Стоит заглянуть на мясокомбинат, решил Ремез, прощупать тамошние его связи...
В дверь постучали. Вошел Ярош. Заговорил, не здороваясь, с порога:
— Вам не кажется, Георгий Степанович, что наше знакомство слишком затянулось? Ваш милый кабинетик я изучил до последней щелки.
— Присаживайтесь, Ярослав, в ногах правды нет. Что Савчук? Не отпускает?
— То одна причина, то другая. Может, это вы... его руками?
— Мы и своими управимся. Была бы нужда.
— Наступит ли, Георгий Степанович, день, когда я не буду чувствовать вас у себя за спиной? Поймите наконец, я тоже живой человек, мне тоже больно!
Ярош отвернулся. Он сидел напротив Ремеза вполоборота. На руках, которыми впился в стул, вздулись жилы. Ремезу стало жаль его.
— Вы свободны, Ярослав, — сказал он. — Я вас не вызывал. И вот мой совет. Найдите способ уговорить Савчука. Поезжайте в Киев. Вам нужна новая обстановка, новые впечатления. Психологи называют это сменой стереотипа. Процесс разрушения болезненный, зато потом станет легче. За время нашего знакомства я не видел на вашем лице улыбки. Вы разучились смеяться, Ярослав!
Ярош обернулся. В глазах стояли слезы.
— Не сердитесь, Георгий Степанович, я наплел глупостей, но я... я ездил туда, к ней, и во мне что-то оборвалось, во второй раз... Там такая тишина, страшная тишина. Ее нельзя передать словами, ее нужно чувствовать... И спокойствие. Нет, не спокойствие, — равнодушие, именно так, холодное равнодушие. Глухая стена, которую ничем не разрушить. Ничем!