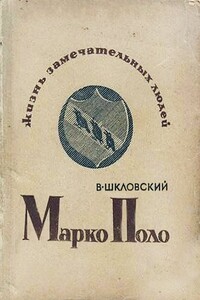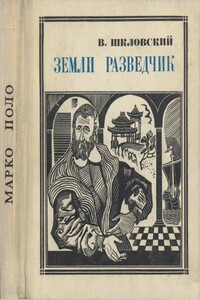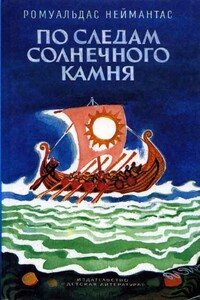Минин и Пожарский | страница 31
– В онучах ее носил, – громко сказал он. – Даю тебе деньгу, не третью, а одну.
Крестьянин повернулся к народу и показал потемнелую деньгу.
– Я ее с Архангельска нес! Били меня да искали, так я не дал. А ему сам отдал… Давай шапку! – прибавил, поворачиваясь опять к Минину.
Минин сорвал шапку, поклонился.
Толпа волновалась уже вся.
– Миныч! Миныч! – кричали люди.
– Миныч, прими сукно! Шапку давай!
– Головы свои отдадим! – кричал человек в толпе.
Плачущие женщины неверными пальцами вынимали серьги из ушей.
Одежды, свертки сукон, шапки с деньгами, сапоги, кафтаны, оружие грудой вырастали на каменном полу паперти, К Минину подобрался подьячий с чернильницей и пером.
– Миныч! – всхлипывая, сказал он. – Записывать надо да список спрятать. Обманут тебя, мы же и обманем.
– Не обманете, – сказал Миныч.
– А воеводой кто будет? – мрачно сказал из толпы Алябьев.
– Есть один воевода! – крикнул Роман из толпы. – Пожарский Дмитрий, что бился за народ в Москве.
Замолчала толпа.
– О Пожарском думал и я, – сказал Минин.
На Волге
…уже пустыня силу прикрыла.
«Слово о полку Игореве»
В середине января из Кремля, плохо обложенного войсками Трубецкого и Заруцкого, выбрался пан Маскевич доставать кормы.
Для спокойствия взял он с собой часть своего имущества: на шею надел ладанку, в нее вложивши изумрудный крест и нитку крупного жемчуга, надел на себя кафтан парчовый, шубу соболью, к поясу привязал кошель, в кошеле – золото, драгоценные камни, и такие же камни, но резные, и опять жемчуг.
Другими же вещами ценными – парчой в кусках, чернолисьими мехами, мехами собольими, персидскими тканями, серебром в ломе – набил он овсяные мешки, взвалил на дюжего чалого мерина и того мерина велел ставить всегда у знамени своего отряда.
Ночью клал пан Маскевич те мешки под голову.
Из Москвы шли на северо-запад разоренными местами. Вышли на реку Шошу. Тут прежде город был Микулин, теперь торчала одна церковь. Пошли дальше. Деревни пустынны. Пробовали в избах печи и золу: в иных местах горяча, недавно убежали люди.
Избы стояли в больших зимних, белых, снеговых шапках.
Тихо кругом, будто теми шапками уши закрыты.
Внутри избы черны – топятся без труб.
Вышли на Волгу, стали грабить между пятью русскими городами – между Старицей, Ржевом, Погорелым, Волочком и Козельском.
Ночевали раз в селе, называемом Роднею. Село большое, дворцовое. Людей не видно, собаки не брешут. А на дорогах помет конский еще не промерз.
Крестьяне, жившие в Родне, вместо всякой иной повинности обязаны были ставить на царскую кухню капусту.