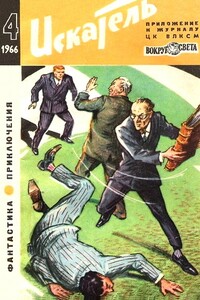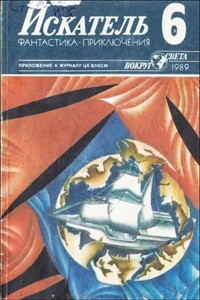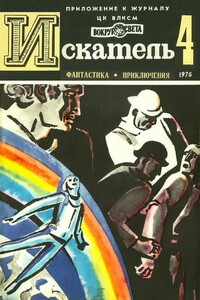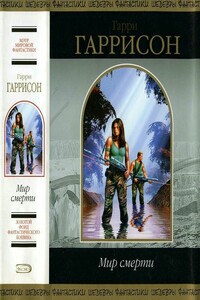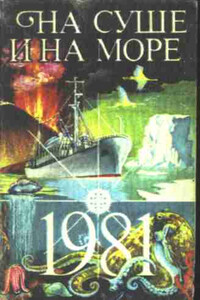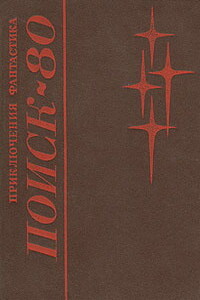Искатель, 1967 № 03 | страница 18
— Все верно, рядовой Матвеев! — генерал протянул руку и, пожав Федорову руку, задержал ее в своей. — А ведь годик-полтора накинул ты себе? Ладно, ладно… Это между нами, — подмигнул генерал и вышел из землянки.
Не затих еще скрип ступенек под генеральскими сапогами, как в землянку юркнул Тихон Глыба с встревоженным лицом. Но, увидев улыбающегося Федора, он присел на нары и облегченно вздохнул:
— Пронесло… А я уж думал, в машину тебя — и в тыл.
Спустился в землянку и Королев.
— А вот и еще начальство пожаловало, — обернулся Глыба. — Сразу — в старшины. Федор, теперь Королев командует, до прихода нового комвзвода. Ты слушайся.
Федор молча лег: голова все-таки кружилась.
— Чего ты, Тихон, взъелся?
— Отправил бы генерал Федора в тыл… Вот и все.
— Не отправил бы, — ласково проговорил Королев. — Он сам в семнадцать ротой у Азина командовал. Я знаю.
Федор слушал с закрытыми глазами.
Воспоминания — боль. Не тревожить их — вроде ничего, а тронешь — хлынут потоком, как из прорванной плотины.
Никогда не мог вспомнить Федор отца таким, как на фотографии в семейном альбоме: усатый молодец оперся об эфес сабли, а по обеим сторонам от него сидят боевые товарищи в таких же заломленных папахах, в шинелях и кожаных куртках, кто в крагах, кто в сапогах, кто в обмотках. Отец в сапогах. Он командир. И руки его положены на эфес совсем не обыкновенной сабли — это золотое оружие: на ножнах — на снимке не разглядишь — два золотых перекрещенных клинка, а сами ножны и эфес отделаны червленым серебром.
Отец рассказывал, что эта сабля принадлежала какому-то колчаковскому офицеру, которого он зарубил в схватке. И по решению всего партизанского отряда отца наградили золотым оружием за личные заслуги.
Сабля висела над кроватью отца.
Стоило Федору прикрыть глаза, и он видел золотую саблю и всю избу с тремя оконцами, огромной печью и будто обонял чуть сладковатый запах угара, которым пропитывается изба за зиму. Но лица отца… таким, каким оно было до той страшной ночи, он припомнить не мог. Именно та ночь стала его первым и осознанным воспоминанием детства.
Тогда он проснулся потому, что кто-то сильно, безостановочно бил в оконную раму и кричал:
— Тимофей! Тимофей!
Белая фигура отца метнулась по избе, мать белым пятном шарахалась от стола к печке и обратно.
— Куда ты их задевал? Где спички?
Отец ударом распахнул створки окна:
— Что?
— Горит! Горит!
— Да говори толком! — зло крикнул отец.
— Эта железяка твоя! Скорее, Тимофей!