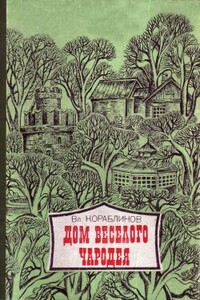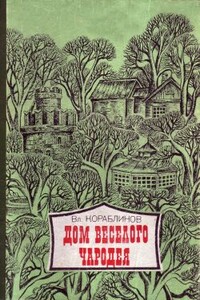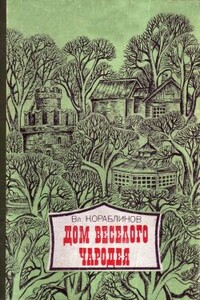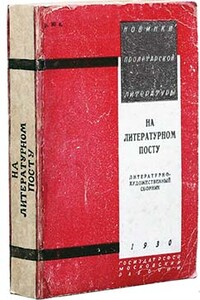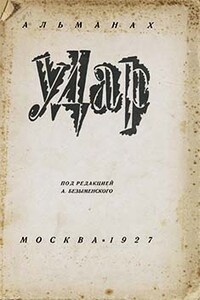Прозрение Аполлона | страница 43
Что, кроме улыбки, могли вызвать подобные профессорские замахиванья зонтиком!
И хотя в эти суровые послеоктябрьские дни вся именитая интеллигенция города осторожно замкнулась в себе, молчала, затаясь, а профессор Коринский орал, ругался, скандалил, возражал и протестовал, – городские власти все-таки почему-то продолжали идти ему навстречу и в его ученой деятельности и в его быту. Так, при очередной мобилизации не тронули каменщиков и плотников, работавших на строительстве опытного завода; в неприкосновенности оставили пятикомнатную профессорскую квартиру, хотя уплотняли по городу немилосердно. Что же до институтского мерина, то тут городская власть была ни при чем: мерина взяла какая-то проходящая воинская часть, оставив взамен ребрастую, слепую на один глаз, с разбитыми ногами, коростовую клячу, которая, и сутки не протянув, издохла.
Вот такой неудобный, драчливый характер был у профессора Аполлона Алексеича Коринского, и так он жил беспокойно и шумно до того ненастного мартовского вечера, с которого и начинается наше повествование.
В сумерки Ляндрес, действительно, как и обещал, «сам лично» доставил Риту. Минуты две чинно, несколько церемонно даже, без этих своих шуточек посидел на кончике стула и стал откланиваться. В комнате реял дивный сладковатый дух тушенной с луком картошки. Рита сказала:
– Оставался б, чертушка! С утра ведь небось ничего не лопал. Чуешь – ароматы?
Агния притворялась, будто читает. Профессор возился с какими-то ящиками, громоздил себе нечто вроде оттоманки. Логово получалось плохое, горбатое. Ляндрес посочувствовал: «Ай-яй-яй! На такой постельке только факиру спать, чтоб я так жил!» – и ушел, о чем-то пошептавшись с Маргаритой.
– Фуй, как неприлично шептаться в обществе! – сказала Агния. Она отложила книгу и завела свой «граммофон»: как это так – не ночевать дома, а где-то бог весть, в какой-то редакции, на каком-то диване… И потом эти манеры, словечки: «лопал», «чертушка»! Отсутствие женственности в современных советских девицах…
– На кого ты стала похожа? – спрашивала, горестно воздымая руки.
Рита ела картошку, молчала отчужденно. Покончив с едой, принялась умащиваться на козетке, шуршала простыней, взбивала подушку. Затем притихла.