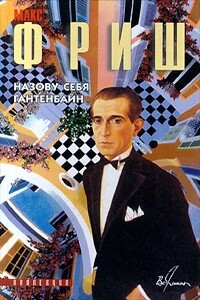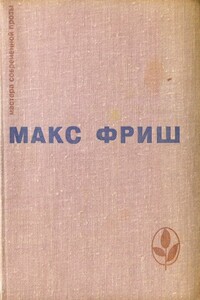Штиллер | страница 55
- Скажи, ты очень счастлива в Париже?
Об этом ведь позволено спросить.
- Счастлива, - говорит она. - Что значит счастлива?
Забавно, но фрау Юлика Штиллер-Чуди не желает, чтобы я считал ее счастливой. Она сразу вспоминает Давос, бесспорно, страшное время, одиночество на веранде с оливково-зелеными витражами в стиле "модерн", где пропавший без вести муж бросил ее на произвол судьбы. Приходится выслушать все это еще раз. Не подвергая сомнению страшное прошлое, вижу ее теперь, такую цветущую, вижу ее прелестное, своеобразное лицо, точно огнями рампы подсвеченное снизу бликами на скатерти. Я тоскую по ней. Хочу, чтобы она вернулась из прошлого, которому все простила, и во имя этого прощения должна так подробно его описывать, в настоящее, в наше сегодня, и без того краткое, ограниченное сроком.
- Милая моя Юлика, - говорю я, - ты все время рассказываешь, как отвратительно вел себя твой Штиллер. Этого нельзя отрицать! Ты утверждаешь, что из-за него заболела, он бросил тебя в санатории, когда ты была при смерти, но, несмотря на это, я вижу, ты ждешь только его. Ты как будто в претензии на него за то, что не умерла в самом деле, а сидишь здесь, такая красивая и цветущая!
Это не было шуткой, я сам заметил, что это не шутка. Не глядя на меня, Юлика вынула из белой парижской сумки пожелтевшее письмецо, явно с целью опровергнуть меня. Письмецо, которое Штиллер, отвратительный Штиллер прислал ей тогда в Давос, она желала, чтоб я его прочел; собственно, это была просто записка, измятая клетчатая страничка из блокнота, торопливо исписанная карандашом, чужим, скорее несимпатичным мне почерком,
- Ну? - спросил я, немного смущенный.
Она чиркала спичками, чиркала так яростно, что сломала несколько штук. Комментировать текст этой записки, последней записки Штиллера, Юлика считала излишним. Она курила.
- Юлика, - сказал я, отдавая ей смятую записку. - Я люблю тебя.
Она засмеялась устало, недоверчиво, безразлично.
- Я люблю тебя, - повторил я и хотел сказать еще что-то, не касающееся ни ее, ни моего прошлого, что-то о нашей сегодняшней встрече, сегодняшнем моем чувстве, о надеждах на будущее; но она не слушала меня. Не слушала, хотя молчала и сидела в позе внимательной слушательницы. Ее мысли были в Давосе, это было очевидно, она даже заплакала, пока я говорил.
Меня опечалило, что два человека, сидя друг против друга, не в состоянии друг друга понять.
- Юлика! - окликнул я ее, и она наконец подняла свое красивое лицо и посмотрела на меня. Но видела она не меня, а Штиллера! Я схватил ее за руку, я хотел ее разбудить. Она старалась слушать, что я говорю, улыбалась, когда я клялся в любви, слушала меня, но не слышала того, что я хотел сказать. Она слышала только то, что мог бы сказать Штиллер, если бы он сидел в моем кресле. Мне было горько. Оставалось одно - замолчать! Я посмотрел на ее руку, лежавшую в моей, и невольно отпустил ее, вспомнив свой чудовищный сон - стигмы на ее ладонях. Юлика попросила, чтобы я продолжал. Зачем? Я вдруг почувствовал себя опустошенным. Я понял, что любой разговор между этой женщиной и мной будет окончен раньше, чем мы его начнем, что любой мой поступок она расценит не как мой поступок, совершенный сегодня, а только как предугаданный или непредугаданный, уместный или неуместный поступок ее пропавшего Штиллера! Но не мой! Не мой!.. Когда я сделал знак официанту, она быстро, с нежной озабоченностью сказала: