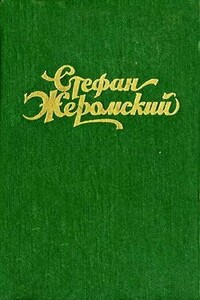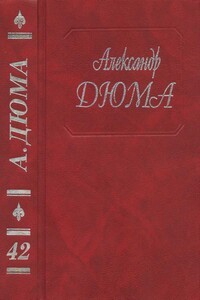Сизифов труд | страница 29
– Мама, ты думаешь, я сдам, а я всего этого вовсе не знаю!
– Да тебя же об этом и спрашивать не будут… Ты же видишь, отвечает ученик старшего класса.
Но Марцинек никак не мог прийти в себя от страха, а зрелище иксов и игреков еще увеличивало тяжесть, давившую мальчугана, словно груда щебня.
Наконец, из канцелярии вышли остальные учителя, и тогда в эту комнату проскользнула группа родителей, к которой присоединилась и пани Борович. Комната была длинная, темная, с одним окном, нижняя рама которого находилась на одном уровне с булыжником, которым был вымощен двор. Там, спиной к двери, сидел секретарь.
Вошедшие довольно долго стояли у дверей, не смея обратиться к углубившемуся в работу секретарю. Наконец, кто-то кашлянул. Чиновник оглянулся и спросил собравшихся, что им угодно. Помещик, привезший сюда своих двух мальчиков с другого конца соседней губернии, ломаным русским языком изложил просьбу дать хоть какие-нибудь указания о дне экзаменов.
– Ничего не могу вам сказать, – ответил секретарь, – так как сам ничего не знаю. Все зависит от господина Маевского, учителя, преподающего в приготовительном классе, если вас интересует приготовительный. Полагаю, что на этой неделе.
– На этой неделе… – пробормотал шляхтич, который уже восемь дней не был в своем фольварке.
– Так я полагаю… – ответил секретарь и тотчас оправленной в дерево резинкой стал стирать какую-то описку в своих бумагах.
Шляхтич обратился к ближайшему соседу, будто разъясняя ему ответ чиновника, но в сущности ожидая, что тот, быть может, скажет еще что-нибудь. Тот, однако, не только ничего не сказал, но еще и глянул на них, явно недовольный помехой.
Родители покинули канцелярию. Еще большая тоска охватила Марцина и его мать, когда они очутились на улице. Тревога ожидания не прекратилась, а утомление усилилось. Мальчик был грустен с момента приезда в город. Его утомлял и душил городской зной, мостовая жгла ему ноги, зрелище городских стен и отсутствие горизонта причиняло нестерпимо неприятное чувство, от которого, несмотря на непрестанные вздохи, не могла освободиться его грудь. Все в этом городе было иным, чем в деревне, все отталкивало, все обращалось с ним не как с ребенком. Деревья, растущие кое-где вдоль тротуаров, – чахлые деревца, заключенные, как кандальники, в железные решетки, наполняли его скорбью, он так тосковал по зеленой мураве, что со слезами взирал на травинки, прозябавшие между камнями мостовой, и единственное утешение находил, глядя на небо, которое одно только было таким же, как в Гавронках, и, как верный друг, шло за ним повсюду, куда бы он ни направлялся.