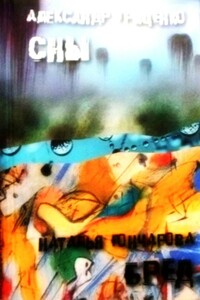Молчание отца | страница 19
Искупанный отец вновь появлялся в комнате – с мокрыми волосами, в пятнистом от воды спортивном костюме, шлепал босыми ногами по дощатому полу, оставляя влажные следы, ложился на кровать, смотрел по телевизору новости, прищуривался, но взгляд его стремительно мутнел, веки закрывались. Он дремал, однако мышцы под кожей скул хранили напряжение, бугрились, как у гипсового солдата, покрашенного бронзовой краской и стоящего возле деревенского кладбища у братской могилы.
ЖАТВА
Профессор на время жатвы запил. Говорили, что от зависти – Митин отец, с которым он с первых дней соревновался, обогнал его на сто тонн намолоченного зерна, хотя Профессор так же приходил и уходил с поля в темноте. Он поначалу бил себя в тощую грудь: я, ребята, ни грамма, посмотрим, чья на жатве возьмет…
Недоглядел Профессор, своротил жатку о камень, а тут тракторист с самогонкой объявился – выпил механизатор с горя стакан, и пошло-поехало. Жатку слесари починили, Тарас Перфилыч, задыхаясь от гнева, ругал Профессора всякими словами, приезжал к нему домой, предлагал опомниться и выходить на работу. Деревенский мыслитель плакал в голос: “Настал, друзья, диалектический момент! Надо решать, чем заниматься дальше – тяжким физическим трудом или чистым мышлением. Я выбираю последнее…”
Однажды возвращается Митя из магазина и видит в тени черемухи троицу
– Профессор, Батрак и Никиша. Сдружились они за последнее время.
Дезертир, выставив дрожащую руку, держал в ладони мутный стакан.
– Эй, Митек! – окликнул Профессор. – Ты, наверное, хлеба купил?..
Отломи нам горбушку – надоело теплым огурцом закусывать.
Митя с удовольствием присел в холодок отдохнуть. Никиша наклонился к нему, промолвил всегдашним заплесневелым голосом:
– Хочу у тебя, малый, чевой-то спросить…
Профессор тем временем протягивал дезертиру стакан, наполненный до половины покачивающейся жидкостью, на которую сам смотрел с каким-то ненавистным обожанием.
– Век кончился! – воскликнул Никиша, ухватисто принимая стакан. В этот миг он казался молодым, сияющим, словно соленый огурец, вынутый из кадушки. – Плохой был век, баламутнай. Мине у ентом веке чуть не убили, Бог надоумил в погреб схоронитца…
– Ну и пей, коль жив! – поторапливал Профессор. – Освобождай стакан!
Я бросил комбайн, пью тут с вами, как последний циник… Стыдно до последних мыслимых жилок. Одна только матушка-философия и осталась у меня. Скажу тебе, дед, одно: ты выжил фактически, но Родину потерял теоретически и окончательно в своей мутной душевной глубине. Она, как мать, загородилась ладонями от тебя, от жалкого ничтожного сына.