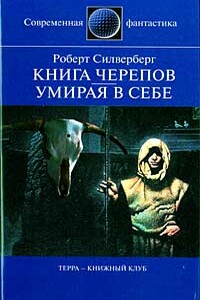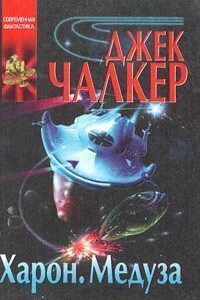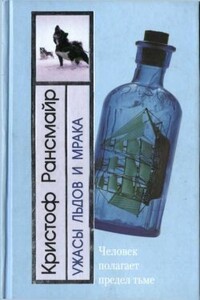записанные на слух во время публичных выступлений поэта… Эта не поддающаяся на запугивания последняя публика на своих тайных сборищах предъявляла серебряные медальоны хозяину вечера — знаки безобидного заговора, который императорской власти не вредил, ссыльному не помогал, а друзьям его творчества позволял тешить себя иллюзией, будто они сторонники дела столь же опасного, сколь и значительного. Чеканка на медальоне едва ли не с насмешливой точностью воспроизводила редкостно большой нос несчастного поэта, нос такой броской и запоминающейся формы, что он-то и снискал Овидию в более беззаботную пору его жизни иногда любовное, а иногда ироничное прозвище — Назон, Носач звали его друзья и обзывали противники; Назону были адресованы коротенькие небрежные записки, которые оставляли ему в бильярдной на Пьяцца-дель-Моро или на воротах его дома, когда ворота были заперты, а бильярдная пуста. И вот у этой фигуры, так резко отвернувшейся теперь от Котты и не желавшей показать лицо, был тот самый неповторимо крупный нос, картонный нос на резинке, которая, щелкнув, лопнула, когда Котта бесцеремонно цапнул отбивающегося человека за подбородок и внезапно увидел перед собою донельзя перепуганного Батта, эпилептика. Визжа как поросенок, слабоумный сын торговки колониальными товарами вырвался наконец из рук римлянина и помчался во тьму; про картонный свой нос он и думать забыл.
Пришел май, голубой и бурный. Теплый, пахнущий уксусом и морозником ветер доедал последние корочки льда на прудах и в лужах, выметал из улиц клочья дыма и гонял по берегу рваные гирлянды, бумажные цветы и промасленные лохмотья лампионов. Страстный пыл и кроткое смирение религиозных процессий и изнурительная распущенность карнавала остались в прошлом, обитатели Томов вернулись к своей работе в горе, к руде, к каменистым полям, наковальне и морю.
Старики и немощные железного города, которые в холода берегли свои силы и тем не менее жили только надеждой на таянье снегов, наконец-то облегченно вздохнули; в этом безмерном облегчении, в этом расслаблении и успокоенности многих из них настигла смерть. За первую неделю южного ветра немец Дит вырыл три могилы, за вторую — четыре и над каждой воздвиг свои искусные каменные надгробия.
До самой темноты слышались в Томской бухте даже сквозь грохот прибоя крики вернувшихся птиц, а из домов долетали заупокойные молитвы, стук столярного молотка да рев убойной скотины. Все окна и двери стояли настежь. В дневное время над плющом садов трепыхалось и хлопало откипяченое белье, а на плоских береговых камнях сушились половики. Была весна.