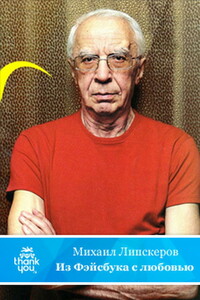Широкий угол | страница 56
– Ты что, за два года работы так ничего и не заработала? – спрашивал я у Сидни, не веря, что все эти люди готовы в лепешку разбиваться по столько часов в неделю, и все забесплатно.
– Эзра, ты что, не понимаешь? – защищалась она, нетерпеливо фыркая, будто я просил объяснить, почему от перемены мест слагаемых сумма не меняется. – Надо вкалывать сегодня, чтобы пробиться наверх завтра.
За те пару месяцев, что мы работали вместе, я так и не понял этой тактики, но подстроился под нее без лишних жалоб. Смирился, что в мире моды можно только работать и молиться об успехе. Доверившись этой логике, я мечтал, что когда‐нибудь благодаря одной из этих бесплатных съемок смогу показать портфолио какой‐нибудь шишке из миры моды и получить настоящий контракт. То же касалось и моделей: пока они бесплатно позировали для Сидни, им виделись сияющие подиумы и дефиле Игаля Азроеля или Франчески Либераторе, а то и билборды c рекламой Кельвина Кляйна и Томми Хилфигера.
Все делалось ради будущего. Приходилось работать не покладая рук и тянуть шею в попытках разглядеть, что таит завтрашний день. Такой подход был мне не совсем по нраву, но я старался об этом не думать.
Вернувшись в четыре часа утра, отупевший за ночную смену, я обнаружил в почтовом ящике длинный узкий конверт со штемпелем Массачусетса. Пока лифт вез меня на пятый этаж, я быстро вскрыл конверт и вытащил стодолларовую купюру. Я повертел ее в руках, погладил кончиками пальцев, попытался отыскать что‐нибудь знакомое вроде пятна от штруделя или запаха маминых духов.
Надеюсь, у тебя все в порядке. Благослови тебя Бог.
Глубокий вдох – я яростно толкнул дверь лифта, будто желая выбраться из клетки, в которой меня заперли. Оглядываться назад было больно, но не получай я каждый месяц этот длинный узкий конверт, сошел бы с ума. Мне нужна была моя семья, и эти сто долларов, которые мама регулярно мне отправляла, были единственным, за что я мог уцепиться, ну и еще они давали мне пусть скромную, но поддержку.
Мама не хотела меня отпускать, а я не хотел, чтобы она меня отпускала. Мы застряли в измерении, где были далеки и одновременно близки друг другу, и поддерживали эти молчаливые, невидимые и сложные отношения с постоянством, которое каким‐то образом дарило мне чувство равновесия.
И тем не менее, вскрывая конверт и опуская в карман сто долларов, я каждый раз вынужден был напоминать себе – с самой настоящей болью, – что дом, из которого эти деньги пришли, – вражеская территория. Я не был там уже два года, и ничто не могло бы заставить меня туда вернуться. В памяти всплывали упертость и угрозы отца да вечно пустые слезы матери, но больше всего страданий мне причинял, подпитывая ненависть, которая, казалось, не знала границ, взгляд раввина Хирша – выразительный и ничего не выражающий одновременно. Все всё видели, кто‐то что‐то говорил, но никто и пальцем не пошевелил. Я чувствовал себя единственным и безмолвным свидетелем величайшей несправедливости из всех, что когда‐либо творились на улицах Брайтона.