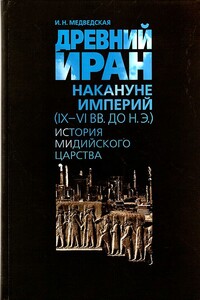Общественное движение в России в 60 – 70-е годы XIX века | страница 48
Некоторые иллюзии поддерживались в Герцене влиянием старого утопического социализма. Герцен с исключительной силой запечатлел драматические страницы истории революции 1848 г. («Письма из Франции и Италии», «С того берега»), он увидел и понял многое, что оказалось недоступным пониманию большинства представителей европейского буржуазного и мелкобуржуазного социализма. Но все же и он не сумел тогда сделать из опыта 1848 г. правильных и последовательных выводов об исторической роли пролетариата.
Уже критически относясь к ряду традиционных положений утопического социализма, став во многом выше старых утопистов, Герцен все-таки еще придавал значение воззваниям к «разуму» имущих классов, причем совершенно освободиться от этой иллюзии он не был в состоянии до конца жизни.
В статье «Революция в России» (1857 г.) и в других Герцен определенно высказывался за предпочтительность пути «мирного человеческого развития». Правда, поражение революции 1848 г., кровавые июньские события в Париже настроили Герцена до чрезвычайности скептически в вопросе о возможности мирного разрешения общественных противоречий в Западной Европе. Но с тем большим упорством он цеплялся за свою мечту о мирном, безболезненном решении вопросов русской общественной жизни[195].
Еще одно свойство утопического социализма облегчило Герцену тактику апелляции к императорской власти в России: непонимание (лично у Герцена, собственно, недостаточное понимание) неразрывной связи между политическими формами и общественно-экономическими отношениями, с чем у Герцена соединялась по временам теоретическая недооценка вопроса о форме государственного строя. Ему случалось о себе говорить: «Нам дела нет до форм правления: мы все их видели на деле и видели, что все они никуда не годятся, если они реакционны, и все хороши, если они современны и прогрессивны»[196]. Конечно, подобные суждения свидетельствовали о теоретической непоследовательности Герцена, великого деятеля русского освободительного движения, который реально являлся на протяжении десятилетий одним из серьезнейших врагов именно существовавшей в тогдашней России формы правления – царского самодержавия.
Каковы бы ни были противоречия и колебания Герцена, они никак не должны и не могут заслонить громадного положительного вклада мыслителя-революционера в развитие русского общества, его коренного, принципиального, классового отличия от либералов даже самых левых оттенков. Герцен, один из крупнейших представителей русского революционного демократизма, был пламенным защитником народных, крестьянских интересов, в то время как либералы представляли только левое крыло защитников дворянско-помещичьих интересов, готовое откупиться от угрозы крестьянского восстания ценою больших уступок, нежели те, на которые были согласны реакционеры-крепостники. Программа и тактика либералов были рассчитаны на сделку, на компромисс с царизмом за счет народа. Герцен же боролся за «победу народа над царизмом»