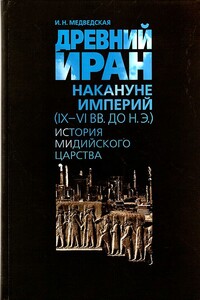Общественное движение в России в 60 – 70-е годы XIX века | страница 49
В уже упоминавшейся статье «Революция в России» Герцен, говоря о желательности мирного пути развития, одновременно подчеркивал, что предпочитает «самое бурное и необузданное развитие застою николаевского status quo»[198]. Через год в статье о русских делах, напечатанной в органе итальянского революционера Маццини, Герцен писал: «Куда мы идем? Вероятнее всего – по пути к страшной жакерии, к массовому восстанию крестьянства. Мы очень далеки от того, чтобы желать этого, и мы громко заявляем об этом. Но, с другой стороны, гораздо хуже, чем жакерия и рабство, то ужасное состояние неуверенности, в котором находится страна»[199].
Если либералы были за освобождение крестьян только и непременно сверху, то Герцен отвечал им: «Будет ли это освобождение „сверху или снизу“, – мы будем за него! Освободят ли крестьянские комитеты, составленные из заклятых врагов освобождения[200], – мы благословим их искренно и от души. Освободят ли крестьяне себя от комитетов, во-первых, а потом от всех избирателей (имеется в виду поместное дворянство. – Ш.Л.) в комитеты, – мы первые поздравим их братски и также от души»[201].
В ходе подготовки крестьянской реформы «Колокол» систематически подвергал острой критике те основы реформы, которые проектировались в правительственных и помещичьих кругах. «Колокол» обличал планы освобождения без земли или с нищенскими наделами, выступая за сохранение крестьянами полного надела; он боролся за максимальное уменьшение выкупа, за идею немедленного и обязательного выкупа без каких-либо переходных состояний, за освобождение крестьян от всякой опеки и власти помещиков и чиновников. Важное принципиальное значение имело отстаиваемое «Колоколом» требование о предоставлении крестьянским общинам формального права возражения против решений составленных из дворян и чиновников комитетов по крестьянскому делу, о создании третейских судов («для окончательных разбирательств после утверждения акта освобождения»), выбранных «поровну с обеих сторон»[202], и т.д. На случай, если бы народ, увидя, что его «надувают освобождением», поднялся стихийно на борьбу, Герцен и Огарев заранее определяли свое место – на стороне восставшего народа. На этот случай они считали необходимым вести дело так, чтобы армия не выступила против народа, а поддержала его. «…Если, – писал Герцен в 1859 г., – мы будем обращаться теперь к солдатам… мы скажем им о том, чтоб они подумали о смертном грехе усмирять крестьян; о том, что солдат, который штыком или пулей убьет крестьянина, – отцеубийца… и что если он подумает, то увидит, что без его слепого повиновения крепостное состояние рухнет, увлекая с собой все, препятствующее освобождению»