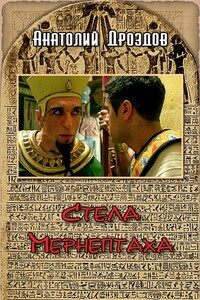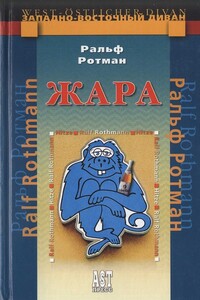Пианино в акациях | страница 3
Вдруг мне захотелось ему рассказать, что мне всегда нравилась эмоциональность и многогранность пианино. Оно как ничто другое могло поменяться вмиг с депрессивного на жизнерадостный тон, с шёпота на крик, с медленной скорости на быструю. Я никогда не умела играть на этом инструменте, поэтому на эту тему не особо спорила, ведь я была не в курсе всех музыкальных прелестей. Но для меня это был бальзам для ушей, который тёк с ушной раковины до самой барабанной перепонки.
Так мы и стояли — друг на друга не смотрели, ничего друг другу не говорили. Мы были похожи на статуи в каком-нибудь городке. Но я была уверена — это самое близкое знакомство, в котором слова не нужны.
На следующий день я решила не ложиться спать и подождать моего музыканта. Я не ошиблась — где-то к первому часу ночи я снова услышала ту же мелодию. Я ей наслаждалась очень тонко и чутко, но не так, как в первый раз. На этот раз я уже специально пришла, заранее подготовилась к тому, чтобы услышать музыку с нажатия клавиш, и навострила ушки, поэтому во второй раз эта композиция не на столь же мне так зацепила и заинтересовала, как в первый. Всё-таки первый раз часто бывает самым лучшим, неожиданным… Ты не знаешь, как это, что это, поэтому делаешь так, насколько знаешь и можешь. А уже со второго раза идёт чисто какое-то умиротворение узнанного, но для таких людей, как я, наскучивает это.
В воздухе от нот витала грусть и печаль, я бы, даже, добавила беспросветность. Некая романтика охватывала лёгкость нажатия клавиш, и быть может, поэтому лёгкость со временем тяжелела.
В музыке я нашла что-то знакомое, до жути родное, но я никак не могла понять, что же именно. Когда руки прекратили игру, я похлопала — с остановками, неизвестной иронией, непринуждённо, отчасти с ухмылистым умилением…
— Благодарю.
Свободный голос наконец вырвался из его уст. Без запинки, смущения, с высокой ненасыщенной ноткой стеснения. Чистый, но тяжёлый, как и вселенская грусть его рук. Его голос словно сам был частью этого музыкального произведения.
— Что ты играл? — наконец — то спросила я.
— Ты разве не знаешь?
— Если бы я знала, то не спросила, — улыбнулась я.
— Это «Лунная соната» Бетховена.
— Почему ты играл именно её?
— Я сравниваю её с собой.
Я не ошиблась в его скорбной тоске — даже его голос где-то местами дрожал. И нет, не потому, что сейчас расплачется — эта дрожь отнюдь не плаксивая и сопливая, скорее вынужденная, без веры, но с мечтой.