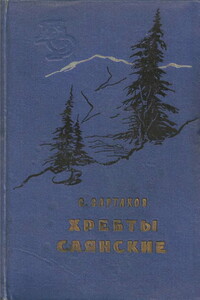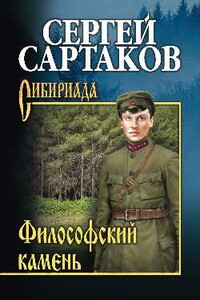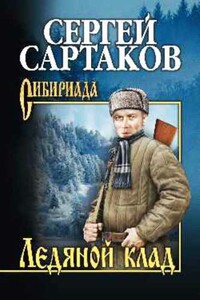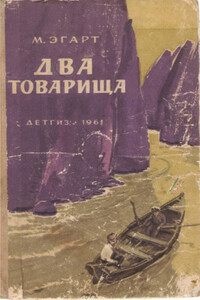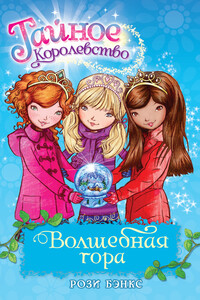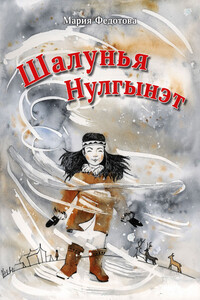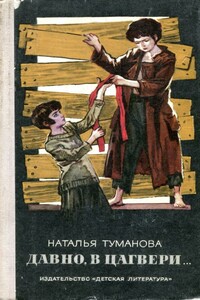По чунским порогам | страница 45
Вот показалась деревня Балтурина…
Течение все тише. В час — один-два километра. Лодка почти стоит на месте. Ни ветерка. Все кругом оцепенело. Оцепенели и мы, лежим, блаженствуем на солнышке и не гребем.
Днем было хорошо, но вечер оказался испорченным. Причалили мы на ночевку, когда во всю свою мощь работал комар. Ужинали в сетках. Кружку еще и так и сяк, а можно было подсовывать под сетку, но с ложкой ничего не получалось. Суп пришлось есть, держа лицо в дыму.
Спали тоже в сетках. Однако комары забирались и под одеяло. Злые и невыспавшиеся, мы встали рано, погрузили в лодку багаж и, ежась от утренней сырости, налегли на весла. Комары, как дым сзади поезда, потянулись за нами.
— Знаешь, Сережа, что я записал в дневник? — говорит Миша, всматриваясь вдаль. — В Мироновском колхозе шестьдесят восемь лошадей, две автомашины и трактор…
— Здравствуйте! А сложные молотилки, триер, крупорушка и шерсточесалка? — подхватил я.
— Не перебивай, — остановил меня Миша. — Речь идет о тягловой силе колхоза, а молотилки, как известно, работают от привода. Понял? Каждая автомашина или трактор практически заменяют по двадцать лошадей. Три раза по двадцать плюс шестьдесят восемь — итого: сто двадцать восемь. В Мироновском колхозе тридцать шесть дворов. Значит, на каждый двор приходится по три с половиной лошади…
— Мертвая арифметика, — буркнул я.
— Она оживет, если ты вспомнишь рассказ Глеба Успенского «Четверть лошади»…
— Да, конечно, четверть и три с половиной, — тогда сказал я, пораженный глубоким смыслом этих двух величин. — Действительно, разница получается в четырнадцать раз!
— И это в Мироновой, приметной разве только тем, что до революции здесь была одна-единственная машина — у местного кулака веялка.
— А чем же тогда люди веяли хлеб?
— Лопатами на ветру! А молотили хлеб так: расстилали снопы на земле и потом гоняли по ним лошадей с вальками.
— Да-а…
Это уже была совсем наглядная картина.
После этого Миша прочел мне целую лекцию по нововведениям в колхозном хозяйстве. Силен он был в агрономии!
Но вот, наконец, впереди, на горизонте, очертились контуры гор. Далеких, подернутых синевой. Тайга? Неужели та самая, желанная, тайга?
Река начинает делать удивительные зигзаги, будто ей, обленившейся, не хочется бросаться в хребты, пробивать себе дорогу в утесах. Постепенно зигзаги становятся все круче, и размах каждого — все шире. Мы ездим взад и вперед — параллельно линии гор. Так цыпленок бегает вдоль частокола, пытаясь найти в нем подходящую дырку, чтобы пролезть в огород.