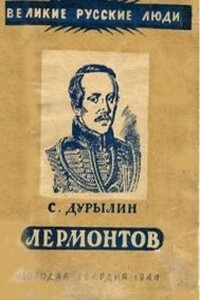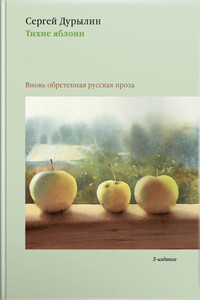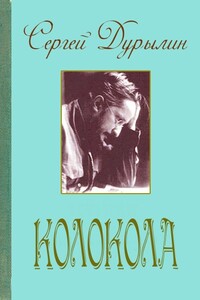В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва | страница 86
Но он ее любит, любит. Это тоже она знает. Знает и он.
И это не спасает: он кончил чахоткой, он прожил все, что у него было, был по суду признан «несчастным банкротом»[79], был устранен от дела (все перешло к черствому брату[80]) – и умирал на руках мамы, тихий, как ребенок. Целовал у нее руки, винил себя во всем, упрекал себя беспрерывно, что загубил ее жизнь, разрушил ее счастье, и потухающим взглядом смотрел на нее с бесконечной любовью и с острым, ранящим до слез упреком, обращенным к себе…
А счастье было так возможно, так близко![81]
Через 17 лет после смерти мамы я впервые раскрыл стопочку его писем, бережно ею сохраненных.
И там оказалось очень мало его писем. Там были ее письма к нему. Они полны у ней, у невесты, чувства глубокого и сильного в своей ясности и простоте: «Вся твоя. Все в тебе. Все с тобою. Все для тебя».
И всегда она ждет его писем, а ему всегда некогда. Он – красавец, баловень матери, баловень семьи. Он любит ее, но у него нет думающего сердца. Его любовь всегда «ищет своего» и не думает, часто даже не видит другой. Это любовь с открытыми глазами на себя и с закрытыми – на любимого человека. А любовь любимого человека «долготерпит»[82] и не поднимает рук, чтоб открыть его глаза на себя. Горько любить человека с закрытыми глазами! А мама выпила до дна всю эту горечь. А любовь ее была так велика, что она заглушила в ней другое чувство, распускавшееся было к другому человеку. Она сохранила два письма без подписи, писанные четким мужским почерком. В одном – горячее признание в любви, благодарность за почти разделенное чувство, надежда на тихое «мещанское счастье» – и мимолетные враждебные упоминания о Калашникове как о человеке пустом, хоть и блестящем. В другом – почти проклятие за разрушенную мечту, за отнятое счастье.
Мама переступила и чрез это письмо. Она переступила и чрез те явные проявления характера властного и вместе слабого, щедрого – и вместе скупого на простую нежность, благородного – и вместе способного на глубокое падение, которые проступали еще в его первых письмах к ней. Это был какой-то Димитрий Карамазов из богатой и гордой купеческой семьи. Он мог рыдать над «Коробейниками» Некрасова и раздавать «в благородстве» деньги всем, кому не лень было их взять у него, и вместе с тем Грушеньки самых низших степеней писали ему такие записки, что получения одной из них было бы, кажется, достаточно, чтобы пустить себе пулю в лоб. А у него сохранилось их немало, и не от одной Грушеньки.