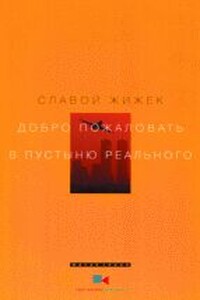Событие. Философское путешествие по концепту | страница 51
Только в этом свете мы можем понять, что Гегель имел в виду под «абсолютным знанием» – формула здесь такова: убрав иллюзию, мы потеряем саму истину. Истине нужно время, чтобы пройти через иллюзии и сформироваться. Гегеля следует поставить в ряд «Платон – Декарт – Гегель», соответствующий ряду «Объективное – Субъективное – Абсолютное». Идеи Платона объективны, они – воплощенная Истина. Картезианский субъект олицетворяет безусловную достоверность моего субъективного самосознания. А Гегель, что он привносит? Если «субъективное» есть то, что относительно нашему субъективному ограничению, а «объективное» – то, как все есть на самом деле, что в эту картину привносит «абсолютное»? Ответ Гегеля: «абсолютное» действительно открывает некое, более субстанциальное измерение, оно включает (субъективную) иллюзию в сферу самой (объективной) истины. Точка зрения «абсолютного» показывает нам, как реальность включает в себя вымысел (фантазию), как верный выбор возникает только после неверного. Гегель таким образом предписывает нам перевернуть с ног на голову всю историю философии, составляющую серию попыток ясно отделить доксу (общепринятое мнение) от истинного знания. Для Гегеля докса является составной частью знания, и именно поэтому истина является временно́й и событийной. Этот событийный характер истины подразумевает логический парадокс, используемый Жаном-Пьером Дюпюи, современным французским теоретиком рациональности и катастроф, в его замечательном тексте о фильме Хичкока «Головокружение»:
Объект имеет свойство х до точки времени t. После t объект не просто лишается свойства х, но: утверждение, что он имел свойство x в любой точке времени, становится неверным. Истинностное значение пропозиции «объект О имеет свойство x в момент t», таким образом, зависит от момента произнесения этой пропозиции[74].
Здесь следует заметить точную формулировку: истинностное значение пропозиции «объект О имеет свойство x в момент t» зависит не от времени, к которому эта пропозиция относится, даже если это время указано, но истинностное значение зависит от времени произнесения самой пропозиции. Или цитируя заглавие текста Дюпюи: «Когда я умру, будет так, что наша любовь никогда не существовала». Подумайте о браке и разводе: самый разумный аргумент в пользу права на развод (предложенный, среди прочих, и молодым Марксом) не отсылает к общепринятым пошлостям из разряда «как и все остальное, узы любви не вечны, они меняются со временем» и т. п., но признают, что нерасторжимость заключена в самом понятии брака. Они заключают, что развод всегда имеет обратную силу: он не просто означает расторжение брака, но и нечто куда более радикальное: что брак должен быть расторгнут, потому что он никогда не был истинным браком. (То же самое относится и к советскому коммунизму: явно недостаточно утверждать, что в годы Брежнева наступил «застой», что коммунизм «исчерпал свой потенциал и перестал подходить новым временам» – печальный конец коммунизма показывает, что он был историческим тупиком с самого своего начала.)