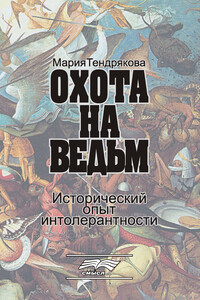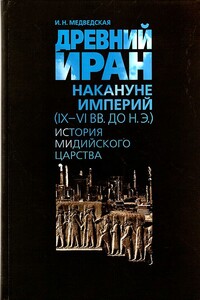Антропология детства. Прошлое о современности | страница 68
Когда же дошёл черёд до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми…» Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, <…> ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселяют забывчивость… припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою… Ты даёшь ученикам мнимую, а не истинную мудрость…»
Платон «Федр»
Так что познание в бесписьменной культуре происходит как процесс построения знания. Каждый инициируемый переживает происходящее посвящение по-своему. Два человека не могут одинаково «вжиться» в один и тот же символ, поэтому содержание его представится им различным. Личностные смыслы одних и тех же событий прошлого неповторимы, они свои и только свои у каждого человека, они есть порождение его внутренней духовной работы.
Не будет большой ошибкой сказать, что память дописьменной культуры закрыта для равнодушных. В бесписьменных обществах общественно-исторический опыт передаётся не как отчуждённые знания, а как знания «горячие», обретающие эмоциональную и личностную окраску. То, что они входят во внутренний мир человека, преобразовывают его как личность — в какой-то степени гарантия того, что знания уже не забудутся, не превратятся в ненужную постороннюю информацию.
Последнее крайне важно для дописьменных культур, у них, пожалуй, нет иного пути передачи общественно-исторического опыта, чем от человека к человеку и от поколения к поколению. Любое выпадение из этой цепочки чревато разрывом связи времён. Такие символы — без живого человека, понимающего их — «вещь в себе».
Поэтому передача тайных знаний является центральным моментом посвящения, важным не только для инициируемых юношей, но и для всего социума в целом. Инициации выступают как особый институт, благодаря которому происходит приобщение каждого последующего поколения к исторической памяти бесписьменной культуры. Это институт, который воспитывает человека как хранителя культурных ценностей. Как пишет К. Харт, «школа инициаций» у первобытных народов — это превосходный «аппарат» «гражданского воспитания», который несоизмеримо больше заботится о воспитании личности, чем «работника», обученного всем навыкам, обеспечивающим выживание (Hart 1975; Тендрякова 1992).
Таким образом, в возрастных инициациях можно увидеть механизм, обеспечивающий преемственность и воспроизводство традиций.
История аборигенной австралийской культуры в значительной степени подтверждает это. Aвстраловеды неоднократно отмечали, что с вторжением европейцев и разрушением традиционного уклада жизни инициации стали проводится всё реже и реже: старики отказывались доверять тайны юношам, которые не чтят законов предков и большую часть времени проводят с белыми людьми. Культура коренного населения Австралии была разрушена не столько огнём и мечом, сколько нарушением существовавшего со «Времени Сновидений» образа жизни и распада каналов межпоколенной коммуникации. Старики умирали, так и не передав свои знания молодым. Под давлением миссионеров инициации перестали проводиться — так начался необратимый процесс гибели этой дописьменной культуры, память которой исправно функционировала на протяжении тысяч лет.