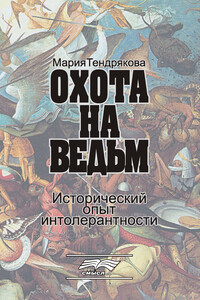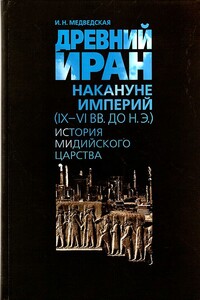Антропология детства. Прошлое о современности | страница 67
• Обряды собственно посвящающие — это обряды, в ходе которых неофиту открываются тайные знания, которые изменят его картину мира и ценности, которые должны стать его жизненными ориентирами. К обрядам такого рода относятся церемонии, в которых разыгрываются мифы и которые связывались с приёмом драматизации, различного рода магические танцы и ритуальные действия, представляющие собою невербальную коммуникацию, а также всё, что связано с изучением священных мест, священных предметов и постижением «записанной» на них летописи прошлого.
Обряды-обереги — очистительные обряды и ритуальные действия, предохраняющие от опасности взаимодействия с миром священного, символизирующие отделение человека от своего прежнего состояния и «освобождение» от всего, что было с ним связано.
Не все обряды можно отнести к выделенным здесь типам. Так, например, когда обряды выбивания зуба, обрезания, подрезания занимают в инициации центральное место, они выступают и как знак посвящения, и как действие, благодаря которому неофит становится сопричастным миру духов. Обряд свой смысл обретает только в контексте всего посвящения в целом.
Возрастные посвящения, преемственность поколений и связь времён
На примере австралийских возрастных инициаций можно увидеть ещё один относительно самостоятельный аспект, не сводимый ни к смене статуса, ни к обретению новых смыслов и жизненных ценностей. Условно его можно обозначить как приобщение, «подключение» к памяти культуры.
Инициации, прежде всего возрастные, были широко распространены в архаичных бесписьменных обществах. Память же бесписьменной культуры, как показал Ю. М. Лотман, стремится сохранить сведения о порядке мира, а не о его нарушениях, о традиции, а не об эксцессе. Для такого рода информации письменность не является необходимостью. Её роль берут на себя мнемонические знаки, к которым можно отнести обряды, мифы, эмблемы, любые продукты человеческой деятельности и явления природы (Лотман 1987(а): 5). Всё это символы, которые представляют собой свёрнутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранящиеся в устной памяти коллектива (Лотман 1987(б):11; 1996). Такая память сакрализуется, она связана с ритуалами и предполагает циклическое повторение важнейших для данного общества событий.
Структура же подлинного символа, напротив, многослойна и многозначна, а содержание его всегда соотнесено с идеей единства мира и поднимается на уровень космического универсума и «направлена на то, чтобы дать через каждое частное явление целостный образ мира». Поэтому точнее говорить не о смысле, а о бесконечной смысловой перспективе символа. Смысл символа — не некая формула, его «нельзя дешифровать простым усилием рассудка» или разъяснить до конца, в него надо «вжиться». «Он не дан, а задан… [его] нельзя разъяснить, сведя к однозначной логической формуле, а можно лишь пояснить, соотнеся его с дальнейшими символическими сцеплениями» (Аверинцев 1971: 826–829). Этой спецификой и определяется способ постижения символов и проникновения через них в хранилище памяти дописьменной культуры. Значение символа выстраивается в ходе активной внутренней работы воспринимающего субъекта.