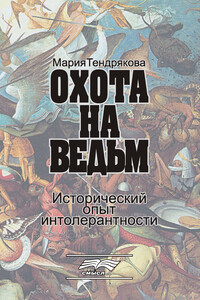Антропология детства. Прошлое о современности | страница 64
Сложные, составленные из множества деталей «костюмы», священные предметы и рисунки на теле, шрамы и другие следы испытаний — всё это знаки. Они являются внешними вехами, символизирующими кардинальные преобразования, происходящие с неофитом по мере посвящения. В то же время они служат средством достижения этих перемен и способствуют идентификации с новой социальной ролью.
К особого рода манипуляциям со знаками относится смена имени — нейминг. Практически во всех известных случаях юноши, прошедшие инициацию, будут называться не так, как до неё. Во многих случаях по окончании инициации меняется не только имя, связанное с переходом в новую категорию, но и личное имя посвящённого (например, Mathews 1896а: 310–311). Изменение личного имени — что-то вроде присвоения нового пожизненного звания. Когда инициация продолжается месяцы или годы и состоит из различных последовательных стадий, название неофитов будет изменяться в связи с восхождением их на каждую последующую ступень и указывать на степень посвящения.
У аранда мальчиков, только что вступивших в пору инициаций, называют Амбакуэрка, сразу же после церемонии подбрасывания в воздух они становятся Улпмерка, и это имя остаётся до начала первых обрядов, связанных с обрезанием, с этого момента и до проведения самой операции мальчиков называют Вуртья, после обрезания и до подрезания — Аракурта, сразу же после подрезания и до начала церемоний энгвура — Эртва-Курка, после окончания всех испытаний огнём и до конца жизни они зовутся Урлиара (Spencer, Gillen 1968: 260). Причём каждому интервалу, каждому рангу соответствуют свои откровения и таинства. В племени мурнгин все дети до 6–8 лет, независимо от пола, называются «дьимеркили», но как только мальчики проходят обряд обрезания, их начинают называть именем, означающим эту церемонию — «дьюнггиан» (Warner 1958: 125).
С именем, как это было показано английским психологом Р. Харре, всегда связаны некоторые общественные ожидания того, каким должен быть его обладатель. Причём это характерно и для имянаречения в традиционных обществах[11], и для разнообразных прозвищ. Распространённые детские прозвища, кочующие из поколения в поколение, не столько отражают реальные свойства своих владельцев, сколько «помещают» их в определённые ячейки социальной структуры и требуют от них максимального вхождения в образ, сросшийся с данным прозвищем (Harre 1976: 46–49; 55–59). В обрядах инициации сменой имени подчёркивается не только перемена статуса, но и отличие неофита от себя прежнего, не прошедшего каких-либо этапов посвящения. Имя, как и вышеупомянутые прозвища, содержит в себе квинтэссенцию соответствующего ему сценария поведения, и в то же время выступает как внешний знак, участвующий в преобразовании внутреннего мира человека.