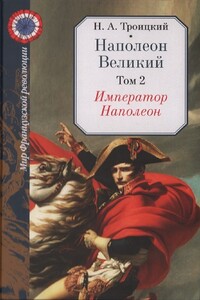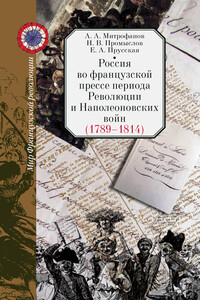Историки Французской революции | страница 46
Такова была советская действительность. Да и не только. Следует подчеркнуть, что и академиям других стран присуща та же атмосфера. К примеру, великий Бальзак не был избран членом Французской академии, так и не пополнив ряды сегодня уже давно забытых и никому не известных «бессмертных». Впервые он выдвинул свою кандидатуру на освободившееся кресло Шатобриана и 11 февраля 1849 г. получил лишь четыре голоса (за него проголосовали Виктор Гюго, Жан-Жак Ампер, Жан-Батист Понжервиль и Альфонс де Ламартин), уступив место герцогу Полю де Ноайу, получившему 25 голосов[277]. А восемь дней спустя, когда состоялись новые выборы на вакантное место Жана Вату, за него проголосовали Виктор Гюго и Альфред де Виньи[278]. В любом случае, после его безвременной кончины газета «Эвенемен» писала: «“Г[осподи]н Бальзак умер, не став академиком”. Неприятная игра слов: умер, не став бессмертным… Да, это правда, но и через сто лет после своей смерти он все еще будет жив»[279]. Впоследствии действовавшие при выборах во Французскую академию драконовские механизмы были подвергнуты беспощадной критике, в стиле вольтеровского сарказма, Э. Доде в опубликованном в 1885 г. романе «Бессмертный». К слову, от этой академии ничем не отличалась и Берлинская академия, в которую «Гегель так и не был принят»[280].
В.М. Далин очень многое сделал для подготовки к печати рукописей А.З. Манфреда, чьи посмертные труды вышли под его редакцией и с его предисловиями[281]. В.М. Далин выступал также с интересными статьями, посвященными жизни и творчеству А.З. Манфреда[282]. Его памяти он посвятил и свою книгу об историках Франции.
Разумеется, В.М. Далин не во всем, мягко говоря, подражал своему другу (по свидетельствам их младших коллег, они были совершенно разными людьми)[283]. К примеру, он был очень скуп на похвалы, в отличие от А.З. Манфреда[284]. Он, конечно, высоко ценил Н.М. Дружинина, в письме к которому от 7 февраля 1972 г. писал: «После того как не стало Вячеслава Петровича, ваше мнение мне особенно дорого. Оно мне очень дорого еще и потому, что Вы, Николай Михайлович, занимаете особое место среди наших историков»[285].
С почтением он относился к М.В. Нечкиной, на книгу которой о Ключевском написал рецензию[286]. Судя по его письму к ней от 21 февраля 1981 г. поклонником яркого таланта Милицы Васильевны он стал еще в 1926 г. после прочтения ее статьи «Общество Соединенных славян»[287]. «Больше полувека спустя я с огромным удовольствием читал вашего “Ключевского’à – все тот же яркий, блестящий талант, умноженный огромным научным опытом»