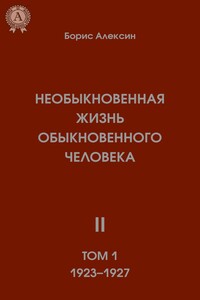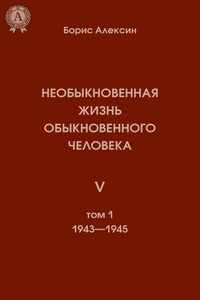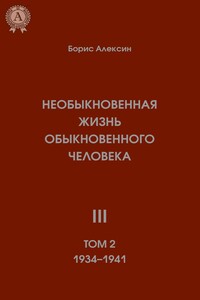Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2 | страница 85
Боря еще раз оглянулся назад, увидел тающие в дымке дождя силуэты этих колоколен и смахнул со щеки то ли каплю дождя, то ли невольно набежавшую на глаза прощальную слезу.
Что-то его ждет?!
Часть четвертая
Глава первая
В то время как Боря Алёшкин потихоньку трясется на старой крестьянской телеге из Темникова на станцию Торбеево (а путь этот на таком транспорте занимал более двух суток), вернемся назад и посмотрим, как протекали описанные нами годы в других семьях, так или иначе связанных с жизнью нашего героя.
В первую очередь, конечно, следует ознакомиться с тем, что произошло в семье того человека, к которому Борю так внезапно и неожиданно направили, то есть в семье Дмитрия Болеславовича Пигуты.
Мы расстались с ним вначале 1919 года. Собственно, больших изменений непосредственно в семье самого Дмитрия Болеславовича не произошло. Он продолжал также усердно и самоотверженно работать в уездном здравотделе, возглавляя всю санитарно-эпидемическую службу уезда. По-прежнему сохранил свою непримиримость ко всякого рода санитарным нарушениям, а так как санэпидправила, постепенно вырабатывавшиеся советской властью, значительно расширились и конкретизировались, а требования по их выполнению строго поддерживались соответствующими органами власти, то и деятельность санврача Пигуты значительно расширилась, а главное, стала эффективнее и продуктивнее.
Это радовало, воодушевляло его, и он, отдаваясь любимому делу с еще большим самозабвением, не обращал внимания на то, что материальное положение его семьи непрерывно ухудшается.
Заработная плата его, или, как ее еще тогда продолжали называть, жалование, хотя и измерялась цифрами с тремя, а затем с четырьмя и даже пятью нулями, фактически по своей реальности была так мала, что ее, как говорила Анна Николаевна – его жена, хватало на один-два дня жизни. Врачебной практикой он не занимался, и хотя и начал писать какую-то научную работу по своим санитарным делам, но она пока ничего не давала, а требовала только новых расходов на бумагу и чернила. Единственное, что он получал от этой работы, это то, что для проверки своих предположений о ходе бактериального преобразования житейского мусора в полезный «гумус», пригодный для удобрения, ему приходилось ставить опыты. Их можно было производить на каком-нибудь поле или огороде. Поля он не имел, а огородик, к большой радости жены, сумел организовать. Выпросив у хозяина дома клочок земли десятка три квадратных метра (находившийся за сараем во дворе), заросший бурьяном, лопухами и крапивой, он принялся тщательно возделывать его, чтобы попробовать действие своего изобретения. Пока об этом он никому ничего не говорил, ведь и гумуса-то у него пока еще не было: он образовывается, по его теории, не так уж быстро. Но с тех пор после работы он почти все свое свободное время отдавал этому огородику и даже без удобрения в конце лета 1919 года снял крошечный урожай огурцов, моркови, свеклы и даже капусты. С этого времени, производя посадки овощей ежегодно, он втянулся в него, и не только стремление поставить «опыт», но и сам процесс огородничества стал его привлекать. Он полюбил и научился ухаживать за землей, а вскоре применение его нового удобрения дало о себе знать; на его клочке земли урожай был больше, овощи крупнее, здоровее и поспевали раньше, чем на близлежащих огородах. Именно это побудило его к попытке вырастить в Кинешме помидоры. До сих пор их привозили с низовьев Поволжья, а во время Гражданской войны, когда юг России был отрезан от северных губерний, помидоров в Кинешме не было совсем. Понятно, что урожаи с этого клочка земли семью Пигуты прокормить не могли, и положение ее было бы катастрофическим, если бы время от времени не помогал отец, да и работа Анны Николаевны в госпитале, получавшей большой военный паек. Кроме того, к концу 1920 года она приобрела сперва одну, а потом и две козы, дававшие достаточно молока хотя бы для Кости. Все это хозяйство создавалось далеко не срезу, а в течение периода с 1919 по 1921 год и к приезду Бориса Алёшкина только еще становилось на ноги.