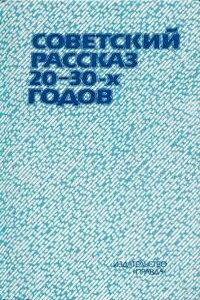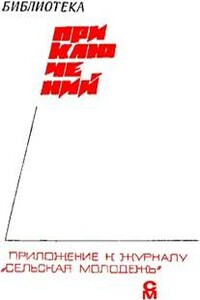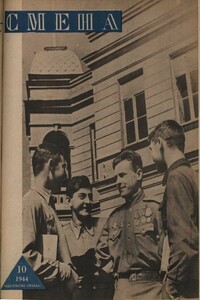Записки спутника | страница 61
Мы въехали в Герат, не выходя из состояния глубокого изумления. Представьте себе группу политических и военных работников, приученных к суровому быту эпохи военного коммунизма, к товарищеской простоте и известной грубости в речах и поступках, Представьте себе северян, привыкших к скупым белесым тонам и полутонам севера, к великорусскому пейзажу, березкам, «безгласности, безбрежности, манящим высям, уходящим далям» и к серенькой ряби Маркизовой лужи. И вдруг эти люди брошены в субтропики, в благодатную долину, обведенную тройной каймой горных хребтов, в темнозеленую листву чинар и в нежную зелень абрикосовых садов и в топкие болота рисовых полей. Ночь мы провели на верблюжьей кошме и видели на твердой, обожженной, как глиняный горшок, земле клешни и рачью шейку скорпиона и пружинное тело фаланги. Шакалы оплакивали нас пронзительными голосами плачущих младенцев. Змеи поднимали из камней трехгранные головки. А утром нас ослепили зелень и солнце, нас оглушил салют из заряжающихся с дула пушек и иступленный рев тромбонов и барабанная дробь афганских оркестров. Мои товарищи, скромные люди, видевшие тиф и непогоду, и смерть, и суровые трудовые будни, сделались участниками пышного и парадного спектакля, напоминающего шествие султанши в сказках Шехеразады или парад Черномора в Руслане. Город Герат, зубчатые стены, башни и крепостные ворота были дальним планом неправдоподобно-прекрасной декорации. И мы, невольные актеры пышного спектакля, были так же интересны для его зрителей, как зрители были интересны для нас. Тысячи и тысячи людей стояли по сторонам дороги, на холмах, на плоских крышах домов, на глинобитных оградах садов. Дети, взрослые и старики (ни одной женщины) — все были одеты в однообразные цвета: в белое — «патлун кандагари» (необъятные шальвары, ниспадающие до туфель с закрученными носами) и коричневое — род жилета из мохнатой домотканной материи. Сорок «газ» белоснежной маты идет на чалму афганца, ровно столько тонкого полотна, сколько нужно, чтобы обернуть и закутать тело правоверного в его смертный час. На скромном бело-коричневом фоне, у горных склонов цвета обожженной глины, неистовствовала зелень садов, голубизна минаретов, свирепствовал пожар медных труб, золотой и огненно-алый фейерверк мундиров, эполет, плюмажей и аксельбантов афганского генералитета. Рядом с этим беснованием золота и алого сукна мы вдруг увидели старомодные черные сюртуки афганских купцов, европейские, семидесятых годов, сюртуки при белоснежных шальварах и туфлях «пешаури» и неизменных чалмах, завязанных с недосягаемым искусством. Генералитет и нотабли города Герата стояли на фоне белоснежной, раскинутой полукругом палатки, задыхаясь от жары и размокая от пота в своих алых мундирах и черных сюртуках. Наш караван приближался в облаках белой пыли; дорога дымилась за ними почти на полкилометра. Караван начинался авангардом афганских кавалеристов и старинными каретами, которые ожидали нас у могилы Джами. За каретами, качаясь, плыли малиновые и оранжевые чехлы тахтараванов, затем ехали восемь матросов, конвой полпреда — ехали с независимым и небрежным видом, как ездят верхом только матросы. Их бескозырки и ленточки и синие воротники странно несоответствовали азиатским седлам и сбруям. За ними ехали сотрудники полпредства в штатском и в полувоенной форме, дальше все тонуло в белом облаке пыли, поднятой вьючными конями. Кареты остановились у белой палатки. Человек в красных кавалерийских штанах, штатском пиджаке и красноармейском шлеме, первым пошел нам навстречу и быстро сказал по-русски: «здравствуйте, товарищи, я генконсул Саулов». В глазах у него было нетерпение, тоска от жары и вместе с тем покорность долгу: «комедия, жара, вообще скука, но что поделаешь. Полагается — терплю». Мы идем к огненнозолотому полукругу мундиров и черной кайме сюртуков. Высокий, с матово-желтым лицом старик в мундире городничего из «Ревизора», не поднимая глаз, тихим, несколько монотонным голосом начинает приветственную речь. Он говорит десять-пятнадцать минут на мелодичном и звучном языке Саади. Возможно, эта речь полна метафор в восточном вкусе, витиеватых сравнений, глубокомысленных исторических сопоставлений — мы слышали знакомые имена султана Бабэра и Сулеймана Великолепного и Александра Македонского — Искандера и имя Михаила Ивановича Калинина. Наконец он кончил речь, наш Джелали переводит ее одним духом лаконической фразой: «Он сказал — слава богу, хорошо доехали. Можно ехать дальше».