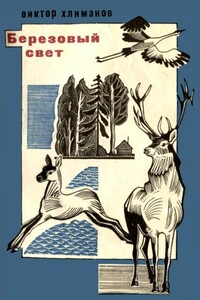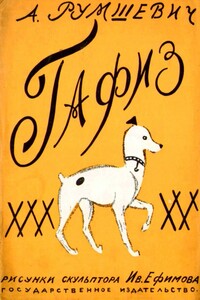За правое дело | страница 33
В конце декабря в Саратове ударили первые морозы. Прилегающий к затону рукав Волги, медленную Тарханку, сковало льдом, по коренной — потянулось шуршащее шершавое крошево, путающееся в ледовых заберегах, отрожинах и причалах. Неуемная разноголосая волжская жизнь уступила место мертвой тишине и покою.
В один из ранних декабрьских вечеров отец вернулся домой необычно приподнятый и шумливый.
— Ну, мать, привечай: как есть я таперича член «союза фронтовиков»! — И выложил на стол новую, в коленкоре, членскую книжку.
Степанида, не зная, как следует отнестись к новости, и в то же время боясь не разделить радости мужа, осторожно спросила:
— Какой же ты фронтовой, Савушка?
— Революцию оборонял, стало быть фронтовой.
— А таперича кого воевать будешь?
— Дура! Я про «союз», а ей все война снится. Порядки наводить будем, за лучшую в мировом масштабе жизню бороться, ясно?
— Это как же понимать, Савушка? В начальники тебя какие определили?
— Опять дура! — всплеснул руками Савелий Кузьмич. — Советская власть нам, бывшим фронтовикам, за себя стоять право дала, а ты… Заради всего нашего обчества печься будем! Шум будем подымать, где чего не так. Шум, ясно?
И забегал по закути, шаркая и натыкаясь на вещи. Степанида не разделяла радости мужа. Зная его заполошный характер, не видела в новом мужнином поприще пользы.
— Кабы тебе самому, Савушка, за шум твой по шапке не дали.
— Не дадут! А «союз» на кой? А это на кой? — схватил он со стола членскую книжку, замахал ею перед испуганной Степанидой. — За правое дело стоять, за все, как должно быть, — это же… это же… Тьфу, бабы!
С того дня Савелий Кузьмич все чаще одаривал семью свежими новостями. Едва появясь в закути, скинув с широких плеч прожженную во многих местах брезентуху, взбодренный, разрумянившийся, что малое дитя на морозе, потирая большие не по росту руки и пришлепывая себя по ляжкам, выкладывал:
— Ноне опять нас, фронтовых, собирали, обсказывали что и как. Пункаре нам шею сломать грозится, обиду забыть не могет, потому как мы его немцу продали. Опосля по избам ходили мы, фронтовых баб проследовали, которые вдовы, будем за них стараться: кому ремонт, кому крышу новую и все протчее.
А вскоре и вовсе ошарашил семью странной вестью:
— Ну, мать, накаркала: немец с румыном войной пошел та нас. Оно конечно, вреда большого от немца не жди, об том и в «союзе» сказывали, потому как немец такожде революцию хочет, однако ж, я так думаю, урон будет.
Наутро по этому поводу в самом большом, жестяницком цехе собрался заводской митинг. С железного бункера, куда Денис взобрался с другими рабочими-подростками, митинг был хорошо виден. В самой гуще голов, черных, сивых и лысых, серых и цветастых платков и косынок в центре цеха высилась широкая железнодорожная платформа, а на ней стояли несколько человек, и среди них знакомые Денису: длинный и прямой, что корабельная мачта, огненно-рыжий конторщик Влас, гороподобный кузнец Илья, рядом с которым Влас казался и меньше и тоньше, вновь назначенный директор судоремонтного (говорят, из чекистов), невысокий, крепко сложенный, средних лет человек с усатым лицом, в рубахе с открытым воротом, опоясанный солдатским ремнем, и еще один: незнакомый Денису, небольшой ростиком, в городском пальто, рядом с громадиной кузнецом казавшийся совсем крохой. На нем-то и были сосредоточены взгляды собравшихся, даже стоявших рядом с ним Ильи и Власа, будто не кто иной, а он, этот маленький чистенький человечек, первым принес эту страшную весть и само событие. Так, по крайней мере, казалось Денису, во все глаза разглядывавшему пришельцев.