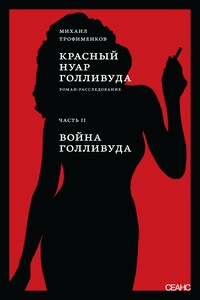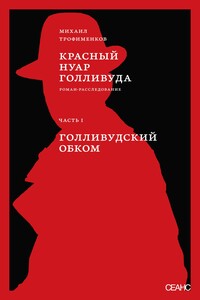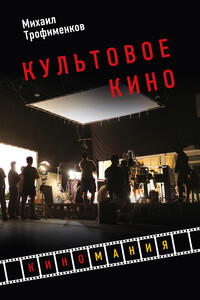XX век представляет. Избранные | страница 98
Понятно почему, встретив в 1963 году в коридоре ленинградского ТЮЗа 19-летнего парня, поступившего на работу электриком, чтобы помочь рано овдовевшей и надрывавшейся на трех работах матери-бухгалтеру, кто-то из театральных педагогов принял его за абитуриента драматической студии при ТЮЗе. Тараторкин не стал противиться судьбе, представшей в облике Зиновия Корогодского, создателя самого яркого, самого «формалистического» театра Ленинграда. Тараторкин оказался идеальным романтическим героем, играл ли он Гамлета, Бориса Годунова или лейтенанта Шмидта в легендарном спектакле «После казни прошу…». Хотя с 1974 года он служил в столичном Театре имени Моссовета, на родине его до сих пор безоговорочно считают своим, ленинградским актером, словно находящимся в бессрочной командировке. Ну а о преклонении ленинградских зрительниц перед ним до сих пор ходят легенды.
С кино у актеров, наделенных столь выразительной и особенной пластикой, как Тараторкин, чаще всего возникают проблемы. Их или безбожно эксплуатируют, девальвируя их дар, или пугливо сторонятся, не зная, как толком использовать. У Тараторкина с кино случился один – зато какой – момент истины. Живой классик Лев Кулиджанов, увидев фотографии 23-летнего ленинградца (в тот момент Тараторкин лежал в тяжелом состоянии в больнице), безоговорочно выбрал его на роль Раскольникова.
Сама по себе экранизация (1965), пусть и перенаселенная великими актерами от Смоктуновского до Басова, была иллюстративна и академична. Точнее говоря, была бы, если бы не Тараторкин. Он стал не просто Раскольниковым, но частью экранного Петербурга, его порождением, его бредом, его горгульей. Он идеально представительствовал на экране за то, что называют «петербургским текстом», фантастическим, больным, гоголевским и классицистическим одновременно. Достоевскую линию Тараторкин продолжил лишь на сцене, где сыграл и Ивана Карамазова, и Свидригайлова. Побывал Блоком в спектакле по пьесе Александра Штейна «Версия». А на экране послом Петербурга побывал еще лишь дважды. В «Софье Перовской» (Лео Арнштам, 1967) он играл цареубийцу Гриневицкого, такое же исчадие болотного воздуха, как и Раскольников, а в «Маленьких трагедиях» (Михаил Швейцер, 1980) – демонического Чарского.
Было время, из него пытались вылепить образцового «нашего современника». Сакральными героями в СССР были учитель, врач и летчик-испытатель. Тараторкин побывал шефом бригады скорой помощи («Дела сердечные», Аждар Ибрагимов, 1973), трудным учителем («Перевод с английского», Инесса Селезнева, 1972), летчиком, потерявшим жену накануне испытательного полета («Отклонение – ноль», Александр Столпнер, 1977). Все не то: он казался то искусственным, то, напротив, бомбой с часовым механизмом.