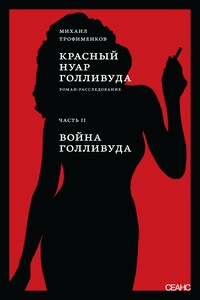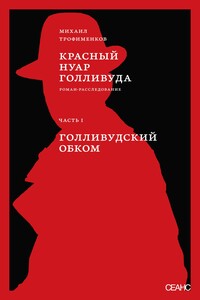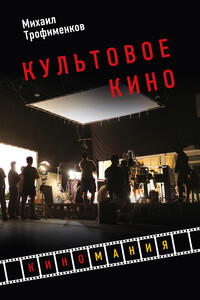XX век представляет. Избранные | страница 97
Упоительный игрок ума Шелленберг («Семнадцать мгновений весны», Татьяна Лиознова, 1973) отражался в сталинском охраннике Власике, слывущем дуболомом («Ближний круг», Андрей Кончаловский, 1991). «Голубой воришка» Альхен («Двенадцать стульев», Марк Захаров, 1976) – в Людовике XIII («Д’Артаньян и три мушкетера», Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1978). Интеллектуал Ксанф, порющий раба Эзопа, чьи басни беззастенчиво присваивает («Эзоп», 1981) – в Брудастом-Органчике («Оно», 1989). Трактирщик Маккью («Человек с бульвара Капуцинов», Алла Сурикова, 1987) – в президенте РФ («Президент и его внучка», Тигран Кеосоян, 2000). Все это бесконечно разнообразные лики бесконечно удавшейся жизни. Даже моралистический советский триллер сделал беспрецедентное исключение для Табакова: его чиновный коррупционер, доведший до самоубийства девушку («Петля», Олег Гойда, 1983), ускользал от правосудия. И следователь мог лишь бессильно клясться в другой раз до него добраться.
Ритуальное заклинание безусловно опоздало: для другого раза у советских следователей просто не оставалось времени. Наступала эпоха героев Табакова. Как перипетии и реалии «Петли» отвечали правде «брежневского нэпа», так и эволюция его героев от пылких юношей к хозяевам жизни складывалась в конспект послесталинской истории.
Коты Табакова – помимо «кулака» Матроскина он озвучивал анимированного милягу Гарфилда – из того же смыслового ряда: что бы там ни воображали люди, это они принадлежат котам, а не наоборот. Проговаривая вслух эту «кошачью метафизику», гениальная Кира Муратова, снявшая Табакова еще в своей первой «коротышке», окрестила милую крошку, кормящую мышьяком самодовольного старика (Табаков), Лилей Мурлыкиной («Три истории», 1997). Придав тем самым экранной биографии актера идеальную завершенность мифа о необратимости времени, вечном возвращении и детях, поедающих своих прародителей.
Георгий Тараторкин
(1945–2017)
Историки культуры давно постановили: Москва – это стихия живописи, Петербург – строгость графики. Вот и Тараторкина словно нарисовал какой-то метафизический Добужинский. Ни один советский актер – параллели можно подыскать лишь в кинематографе немецкого экспрессионизма, тоже категорически графичном – не обладал таким выразительным, трепетным и трагическим силуэтом, которым Тараторкин владел, как другие владеют мимикой. И ни у кого не было столь странной киногении лица с крупными чертами и резкими складками, проступавшими с годами, но предугадываемыми со времен актерской юности. Лица, одновременно интеллигентно беззащитного, но таящего в себе если не патологию, то безусловную угрозу: для себя или для других – неважно. Лица падшего демона.