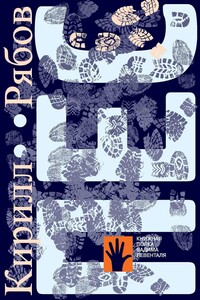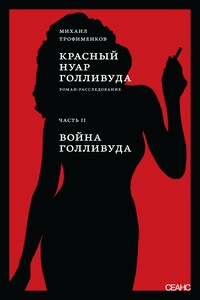XX век представляет. Избранные | страница 95
То дурашливы, как картины Анри Руссо:
Но все эти видения столь чувственно достоверны, что не остается сомнений: Соснора воочию видел коней, рыдающих над телом Патрокла, и слышал перебранку ежа с ершом, входил в камеру Оскара Уайльда и бражничал с Мефистофелем. Его огромная культура никогда не иссушала поэзию. Поэт без идеологии – «политика – это болезнь» – не нуждался в эзоповом языке. В отличие от Бродского, говоря о Риме, он говорил именно о Риме, а не об СССР:
Его Китеж – не сусальный миф, а обесчещенный, варварский город. Наделенный фасеточным поэтическим зрением, он, как человек эпохи барокко, взирал на огромную театральную сцену мира, никогда не оставаясь безучастным к трагедиям, на этой сцене игравшимся:
Кажется, даже Солженицына он защищал из любопытства: как-то власть ответит. А власть держала испуганный нейтралитет. Однажды генерал КГБ Олег Калугин – тот самый, будущий предатель – обличал в Союзе писателей гнусь самиздата. «Протестую! У меня ходит 30 000 строк самиздата!» – вскричал из зала поэт. Генерал вздрогнул: «Товарищ Соснора, разве о ваших стихах речь?»
«Я всадник. Я воин. Я в поле один» – так он видел себя и пророчествовал:
Даже для человека, слывшего мэтром эпатажа – в юности он ходил к пивному ларьку в католической сутане, и очередь благоговейно расступалась, – его память о войне – это было чересчур. С тем, что он – сын акробатов-эквилибристов – потомок апостола Иоанна, Барклая-де-Толли, мистиков-раввинов и ясновельможных панов, еще можно было смириться. Но от рассказов, как эвакуированный из Ленинграда шестилетка попал под оккупацию, выжил – единственный из партизанского отряда – и дошел с отцом, обернувшимся польским комкором, до Одера, освоив забавы ради искусство снайпера, бросало в дрожь. Однако, обнаружив в анналах Войска Польского подполковника Соснору, пусть не комкора, а танкового комполка, с ужасом понимаешь: и это он, «вскормленный молоком львицы», тоже видел.