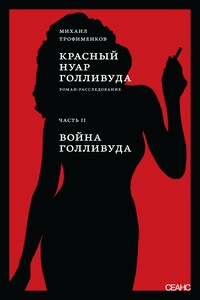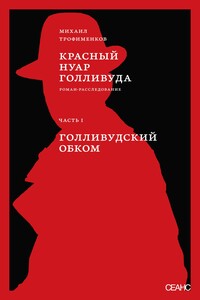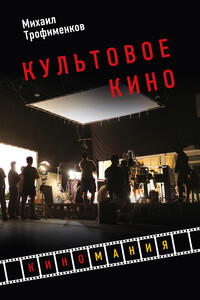XX век представляет. Избранные | страница 91
Нет, все не то. В конце концов, что ей впавший в маразм Голливуд, что она Голливуду. А советское кино переживало тогда свой золотой век и многое могло предложить актрисе. И тут уже роковую роль сыграли ее «крестные отцы», считавшие Самойлову своей собственностью. Калатозов не позволил сняться в «Балладе о солдате» (1959) Григория Чухрая, выгонял из комнаты, когда встречался с Грегори Пеком – «уворует в одну минуту», «мы тебе дали славу – служи!». Как ни сопротивлялась Самойлова, два года жизни пришлось отдать роли геолога Тани в запредельно – до садизма – истеричном «Неотправленном письме» (1959) Калатозова, где зачарованный тайгой Урусевский превратил и ее, и Смоктуновского, и Урбанского в «фигурки в ландшафте».
Она пробовалась на роль в «Девяти днях одного года» (1961), но Михаил Ромм сказал ей: «Так улыбаться может только Анна Каренина, и я хочу тебя в ее роли! А эту роль будет играть какая-нибудь молоденькая актриса». В результате Самойлова сыграла Каренину в фильме (1967) Александра Зархи. А травму несостоявшейся работы с Роммом попыталась компенсировать – и едва ли не усугубила – съемками в «Долгой дороге в короткий день» (Тимофей Левчук, 1972), топорном украинском эрзаце «Девяти дней». Смотреть, как в «Океане» (Юрий Вышинский, 1973), ходульной драме об офицерах Северного флота, героиня Самойловой снимает, словно совершая предсмертный стриптиз, перед зеркалом накладные ресницы и парик, просто жутко. Такой безнадежный взгляд не сыграть. И еще эта фраза: «Он больше никогда ко мне не придет». Кто он? Не герой же Олялина. Успех? Солнечный свет, которому уже не суждено развеять полярную ночь?
Кто виноват? Все и никто. Кино как таковое. Кино как безжалостная судьба. Как ни жестоко это прозвучит, но что могла сыграть Самойлова, уже сыграв Веронику? Что вообще играть актрисе после того, как в 23 года ее лицо становится одним из высочайших символов века?
Ирина Скобцева
(1927–2020)
В высший свет мирового кино они вошли рука об руку. Дебютантка – и Сталинский лауреат, народный артист СССР. Дездемона и Отелло из фильма Сергея Юткевича (1955), награжденного в Каннах – самая невероятная и, честно говоря, обаятельная своей нелепостью шекспировская пара. Бондарчук и в гриме мавра оставался русским богатырем. А в сияющей красоте Скобцевой переплелись простоватое жизнелюбие Ренессанса (недаром она училась на искусствоведа в МГУ) и безоглядная русская искренность. «Отелло» стал для них – как «Иметь и не иметь» для Богарта и Бэколл – репортажем о рождении любви. Оператор то и дело одергивал слишком сближавшихся партнеров: не из ханжества, нет: из-за грима для каждого из них выставлялся свой свет. А в последний момент Юткевич решил доснять сцену свадьбы, и рижский пастор всерьез обвенчал не только героев, но и актеров. Если это правда, то вот она – магия кино в действии.