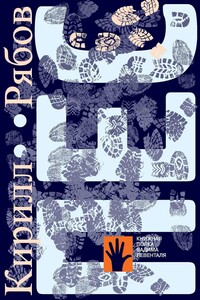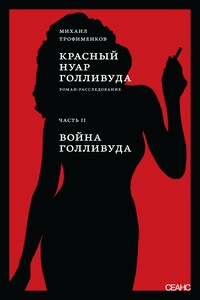XX век представляет. Избранные | страница 73
Почему же только офицерства? Все сложнее. Лановой на экране и в жизни воплотил извечный парадокс русского мятежного романтизма, со времен Пушкина органично перетекающего в романтическое государственничество. И идеальным Шервинским он был именно потому, что только Лановой мог придать органичность переходу булгаковского героя от романтической контрреволюционности к приятию революции.
Точеное лицо Ланового было лицом русского романтизма изначально, со времен второго же его фильма «Павел Корчагин» (Александр Алов, Владимир Наумов, 1956). Только благодаря ему удался замысел отцов советского «революционного барокко» совместить беспощадную жуть судьбы Островского-Корчагина с гимном чистоте и бескорыстию человеческого порыва. На голодном, промерзшем до костей историческом фоне Павка Ланового, избегавший в интонациях и пластике любого бытовизма, был не просто «большевистским Иисусом Христом», а таким «Христом», в которого невозможно не влюбиться.
Эдуард Лимонов
(1943–2020)
Едва его не стало, сотни некрологов помянули «самого скандального русского писателя конца ХХ века», того самого «Эдичку», который на нью-йоркской помойке брал в рот у какого-то негра. Хотя скандален Лимонов ничуть не более, чем Толстой со своим богоборчеством, Достоевский со своим петербургским бредом или Маяковский, самую поразительную лирику тоже писавший «про это». «Это я – Эдичка» (1976) – что угодно, но только не порнография: один из самых пронзительных воплей о любви и одиночестве, которые когда-либо срывались с языка русского писателя.
Впрочем, в защите Лимонов не нуждается. Сам он не снизошел до того – лишь констатировал факт, что неплохо бы – чтобы дать по морде Юрию Дудю.
Лимонов был обречен и на то, что посмертно, как и при жизни, его уличат в «отсутствии фантазии». Дескать, писать он мог только о том, что испытал на собственной шкуре. Потому-то менял страны и континенты. Потому-то воевал насмерть с прекраснейшими женщинами, которых любил. Потому-то любил войны, чьи запахи и цвета мгновенно, жадно и хищно фиксировал на бумаге. Ну да, конечно. Повезло человеку. Это же так просто – всего лишь описывать, что с тобой происходит. Загвоздка лишь в том, что бессчетным его современникам, безусловно одаренным творческой фантазией, как-то «не повезло»: не выпало им и миллионной доли страстей, что питали творчество Лимонова.
Страстность удивительно и изначально сочеталась у него не то чтобы с рационализмом, но с четким, стоическим переживанием тщетности любых страстей, приятием и отрицанием конечности жизни. Автор и герой своих книг, он пребывал одновременно и внутри, и вне текста. Вот – душа, а вот – тело. Вот он я, каким я хотел бы быть. Вот он я, как я есть. И вот он я, каким мог бы быть. Вот – невыносимая отчетливость, осязаемость вещей, женского тела, оружия. И вот – удивительная ирреальность тех же самых предметов и тел. Его, казалось бы, на все насмотревшийся и все познавший герой не переставал изумляться миру. Это сродни фотореализму, в котором абсурдность и метафизичность реальности прямо пропорциональны ее тяжелой вещности: