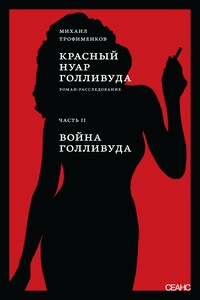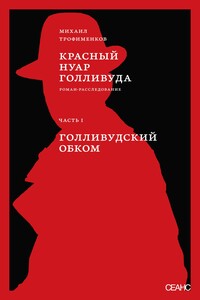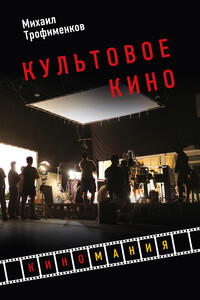XX век представляет. Избранные | страница 72
Речь можно исправить. Но откуда у сына рабочих, внука крестьян эта гвардейская стать? Откуда – естественный аристократизм в ролях Вронского («Анна Каренина», Александр Зархи, 1967) и шляхтича Дзержинского («Шестое июля», Юлий Карасик, 1968), белого шпиона Ярового («Любовь Яровая», Владимир Фетин, 1970) и фата Шервинского в белой черкеске («Дни Турбиных», Владимир Басов, 1976). А он еще и капризничал в театре: надоели мне принцы (самый знаменитый – принц Калеф в «Принцессе Турандот»), дайте другое. И был счастлив, когда Симонов отвел ему в «Золушке» роль маркиза Па-Де-Труа, проспавшего 800 лет и буквально разваливающегося на запчасти.
Единственным, кто покусился на образ принца на экране, был гениальный Юлий Райзман. В «Странной женщине» (1977) высокопоставленный чиновник Внешторга был, конечно, неотразим, но свою неотразимость задушевный эгоист использовал во зло героине. Хотя с красотой Ланового даже Райзман ничего поделать не смог: разве что приклеил ему бороду.
На вопрос о лучшей своей роли Лановой отвечал: роль «короля пляжа» в «Полосатом рейсе» (Фетин, 1961). Тот самый, который: «красиво плывут, вон та группа в полосатых купальниках». Понятно, что шутил. Дескать, и роль столь крохотна, что сыграна безупречно, да еще и единственная выпавшая ему комедийная роль в кино.
Но в согласии Ланового на микроэпизод были актерская лихость и профессиональное благородство. Ведь он стал звездой, едва появившись на экране в роли заносчивого школьника Литовского в «Аттестате зрелости» (Татьяна Лукашевич, 1954). И принял приглашение Фетина в паузе между двумя звездными хитами. «Алыми парусами» (Александр Птушко, 1961), где был, естественно, капитаном Греем, и «Коллегами» (Алексей Сахаров, 1962), экранизацией бестселлера Василия Аксенова, где его Лешка от лица всех мальчиков-шестидесятников клялся жить не по лжи.
Фетину он не отказал, а вот Сергею Бондарчуку долго отказывал – потом уступил – сыграть Анатоля Курагина в «Войне и мире»: соглашался только на князя Андрея. И от роли генерала Вольфа в «Семнадцати мгновениях весны» (1973) отбивался. Ну не мог он забыть детство, не дергаться при звуках немецкой речи (а песенок под губную гармошку он вообще слышать не мог). Татьяна Лиознова убедила: а ты относись к Вольфу не как к врагу, а как к противнику. Даже от роли Ивана Варравы в «Офицерах» (Вадим Роговой, 1971), намертво ассоциирующейся с Лановым, он трижды отказывался: не понимал свою функцию в плоском сценарии. Согласился, только придумав, что Варрава – носитель романтической традиции русского офицерства, оттеняющей мужицкую тяжеловесность героя Юматова.