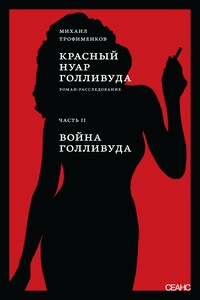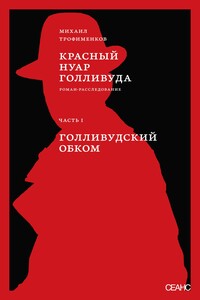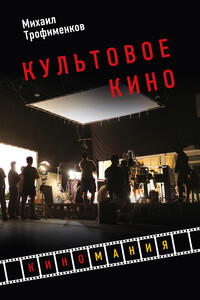XX век представляет. Избранные | страница 74
Вот – я. А вот – топор.
Лимонов, зная себе литературную цену, отчаянно сопротивлялся роли живого классика. По силе этого сопротивления он сравним разве что с 90-летним Годаром, отчеканившим на вопрос журналиста о фильме, посвященном его любовно-революционным приключениям 1968 года: «Меня не интересует прошлое, меня интересует только будущее».
О том, что Лимонов, как бы он этому ни сопротивлялся, был обречен стать классиком, свидетельствуют сами зачины его книг: сгустки энергии, выстрелы в упор. Взять хотя бы «Подростка Савенко» (1983).
Эди-бэби пятнадцать лет. Он стоит с брезгливой физиономией, прислонившись спиной к стене дома, в котором помещается аптека, и ждет. Сегодня Седьмое Ноября, в прохладный полдень мимо Эди дефилируют наряженные граждане, или козье племя, как он их называет.
Или – начало «Книги мертвых» (2000), самых значительных русских мемуаров со времен книги Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Одноклассник журит Эдуарда-тогда-еще-Савенко:
– Мать на тебя жалуется, – сказал он. – Работу ты бросил, – и замолчал. – На хера ты к бандитам лезешь, Эд? Мать обижаешь. Учился бы, стихи писал, в Москве вот Литературный институт есть…
Мать, ну не обижайся. Что до работы, «пускай работает рабочий», как пел Леша Хвостенко, друг Лимонова. К бандитам лезу и буду лезть. А стихам научиться нельзя, они или есть, или их нет. Вот: в трех фразах – вся литературная и человеческая биография Лимонова. Весь его отрицательный символ веры, формула того, чего он будет избегать всю жизнь и избежит. Как философ Григорий Сковорода, он мог гордо и нескромно констатировать: «Мир ловил меня и не поймал».
Пацан с бандитской харьковской окраины, заводчанин, завальщик шихты, обрубщик, монтажник, кем там он еще перебывал – последний великий самородок русской литературы, сравнимый лишь с Максимом Горьким. И одновременно – первый русский европеец новейшего времени, не просто свободно писавший по-английски и по-французски, но видевший мир в его целостности, красоте и мерзости. В Париже в 1990 году он жаловался – не малознакомому мне, а безразличным небесам – на онтологический идиотизм диалогов с перестроечной интеллигенцией. Типа, он им о Пазолини, Жене и Ги Деборе, а они в ответ: «Зато в Швеции тротуары с мылом моют». Он им о родовом проклятии колониализма, о сумерках Бронкса, о неупокоенном пепле парижских коммунаров, а они в ответ: «Зато в Швеции…»