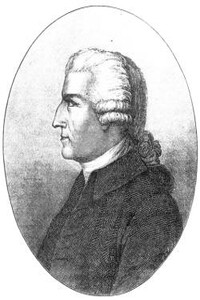Дѣла минувшихъ дней. Записки русскаго еврея. В двух томах. Том 1 | страница 69
Еврейская молодежь не знала о существованіи еврейскаго вопроса, не чувствовала себя выдѣленной изъ русской молодежи вообще. Даже въ Полтавѣ, центрѣ Малороссіи, не было рѣчи и у малороссовъ о другой, какъ это нынѣ называется, оріентаціи, кромѣ русской. Даже Шевченко и Котляревскій не прельщали малороссовъ, и если «Кобзарь» Шевченки былъ любимъ, а «Энеида» Котляревскаго встрѣчалась въ рукахъ у гимназистовъ, то только какъ «запретныя» книги, иначе говоря, никакого тяготѣнія къ украинофильству не существовало и, во всякомъ случаѣ, не замѣчалось. Національный вопросъ есть продуктъ позднѣйшаго времени, тогда его не было въ Малороссіи, не возникалъ онъ и для евреевъ. Еврейской литературы почти не было. На древне-еврейскомъ языкѣ издавались журналы, была газета «Гамелицъ», но чтеніе ихъ было монополіей ортодоксальной части еврейства, интеллигенція же и молодежь никакого представленія о древне-еврейской литературѣ не имѣла, не интересовалась ни ею, ни еврейской исторіей. И если, какъ я упоминалъ, кружокъ, въ центрѣ котораго я стоялъ, носилъ характеръ чисто еврейскій, то этотъ характеръ правильнѣе опредѣлить, какъ еврейско-благотворительный или общественный. Отъ идей чисто національнаго свойства онъ былъ далекъ. «Голусъ» мы слабо ощущали. Такъ было до 1 марта 1881 года, дня убійства Александра II.
ГЛАВА V.
Этотъ день мнѣ особенно памятенъ, такъ какъ онъ совпалъ со днемъ, когда умерла моя мать, проболѣвшая послѣ родовъ больше мѣсяца. Во время ея болѣзни, я, не прерывая своихъ обычныхъ занятій, жилъ внѣ міра, ночи напролетъ проводилъ у постели матери. Смерть ея была страшнымъ ударомъ для меня, и я не знаю, какъ бы я вышелъ изъ душевнаго кризиса, черезъ которой проходилъ, если бы 2 марта, въ день Пурима, въ Полтавѣ не стало извѣстно о кончинѣ Александра II. Жизнь всколыхнулась. Стояли передъ неизвѣстнымъ будущимъ…. Я отчетливо помню, что извѣстіе объ убійствѣ Императора никого не поразило, — такъ привыкли къ покушеніямъ за конецъ 70-хъ годовъ, что къ новому покушенію 1 Марта, на этотъ разъ, къ несчастью, удавшемуся, отнеслись, какъ къ ожидавшемуся рано или поздно явленію. И если, тѣмъ не менѣе, всѣ заволновались, то не изъ сожалѣнія объ ушедшемъ прошломъ, а изъ-за неизвѣстности будущаго. Уже тогда личность наслѣдника, впослѣдствіи Александра III, не возбуждала къ себѣ особыхъ симпатій въ интеллигентныхъ кругахъ. Среди молодежи не циркулировало никакихъ разсказовъ о личности Александра III, которые располагали бы къ ней сердца. Я припоминаю пріѣздъ въ Полтаву императора Александра II, въ 1878 г., послѣ турецкой войны. Онъ пріѣхалъ въ сопровожденіи наслѣдника, провелъ въ городѣ нѣсколько часовъ для посѣщенія Петровскаго кадетскаго корпуса. Само собою разумѣется, весь городъ былъ на ногахъ, мы, гимназисты, были выстроены шпалерами, пѣли соотвѣтственные гимны и обязаны были соблюдать строгій шпалерный порядокъ. Но, когда мы увидѣли экипажъ Александра II, въ которомъ былъ и наслѣдникъ, то о всякомъ порядкѣ было забыто: чудное лицо Александра II, какъ магнитомъ, насъ притянуло, мы его окружили тѣснымъ кольцомъ, и я еще, какъ сегодня, слышу явственно его мягкій, ласкающій голосъ: «Тише, дѣти, тише!» Лицо его сіяло благоволеніемъ. Наслѣдникъ же сидѣлъ неподвижно съ нахмуренными бровями.