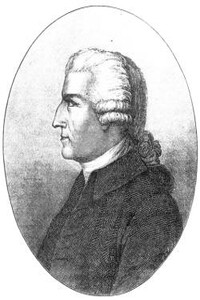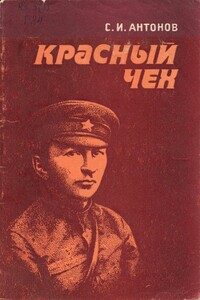Дѣла минувшихъ дней. Записки русскаго еврея. В двух томах. Том 1 | страница 67
За этимъ ограниченіемъ послѣдовалъ рядъ новыхъ постановленій о воинской повинности, практически ставившихъ еврейское населеніе въ еще болѣе тяжелое положеніе, какъ, напримѣръ, о «доказательствахъ» возраста, семейнаго положенія, смерти, о порядкѣ составленія призывныхъ списковъ (которые пестрили сплошь и рядомъ именами давно умершихъ, а иногда даже и женскими), и, наконецъ, о пресловутомъ трехсотрублевомъ штрафѣ, налагаемомъ на семью не явившагося къ призыву еврея, — штрафъ не только морально обидный, но и приводившій къ разоренію множества бѣдныхъ трудовыхъ семействъ.
Тяжело отозвался на матеріальномъ положеніи евреевъ и законъ 1876 г. о воспрещеніи, внѣ городовъ, питейной торговли не изъ собственныхъ домовъ. Въ Полтавской губ. значительное число евреевъ проживало въ селахъ и деревняхъ, преимущественно вблизи городовъ и мѣстечекъ. Они занимались торговлей, арендой «баштановъ», т. е. огородныхъ участковъ земли и обработкой ихъ для дынь, арбузовъ, огурцовъ и другихъ овощей; содержали, конечно, и питейные дома. Въ губерніяхъ западныхъ и юго-западныхъ евреи селились на помѣщичьихъ земляхъ и «шинки» находились тамъ въ предѣлахъ владѣній помѣщиковъ, такъ какъ, въ силу принадлежащаго помѣщикамъ пропинаціоннаго права, т. е. исключительнаго права на продажу питей, содержаніе шинковъ другими лицами не допускалось; помѣщики же сдавали пользованіе этимъ правомъ евреямъ. Но въ малороссійскихъ губерніяхъ, гдѣ пропинаціонное право не существовало, евреи арендовали крестьянскія усадьбы или усадьбы, принадлежащія казакамъ, т. е. вольнымъ крестьянамъ, не бывшимъ въ крѣпостной зависимости, или дома, принадлежащіе крестьянскимъ обществамъ. Пріобрѣтать въ собственность такіе участки представлялось, даже и до закона о неотчуждаемости крестьянскихъ надѣловъ, крайне затруднительнымъ, а въ большинствѣ случаевъ прямо невозможнымъ. Съ изданіемъ закона 1876 г. прекратилась поэтому для евреевъ возможность дальнѣйшаго, съ патентомъ на собственное имя, содержанія питейныхъ домовъ въ селахъ и деревняхъ, за исключеніемъ тѣхъ рѣдкихъ случаевъ, когда, пользуясь отсутствіемъ запрета для евреевъ пріобрѣтать въ губерніяхъ черты осѣдлости недвижимое имущество, содержатель «шинка» могъ пріобрѣсти въ собственность участокъ отъ помѣщика. Я помню волненіе, которое вызвано было этимъ закономъ среди многихъ сельскихъ евреевъ, въ частности, у нѣкоторыхъ моихъ родственниковъ, жившихъ вблизи города. Изобрѣтали способы обхода этого закона, прибѣгали къ совершенію сдѣлокъ по покупкѣ домовъ «на сносъ» (пользуясь тѣмъ, что запретительный законъ говорилъ о собственныхъ д_о_м_а_х_ъ, а не о правѣ собственности на участокъ земли съ домомъ, въ которомъ помѣщалось питейное заведеніе). Большинство же прибѣгало къ «подыменной» питейной торговлѣ, т. е. къ выборкѣ патента на имя христіанина, при чемъ дѣйствительный владѣлецъ заведенія формально поступалъ въ сидѣльцы, т. е. въ наемные приказчики фиктивнаго собственника. Терминъ «подыменная торговля» въ правительственной перепискѣ того времени встрѣчается очень часто. Въ рядѣ многихъ обвиненій, которыя въ концѣ 70-хъ и началѣ 80-хъ годовъ предъявлялись евреямъ въ обоснованіе ограничительныхъ противъ нихъ мѣропріятій, подыменная торговля занимаетъ видное мѣсто. Одинъ изъ моихъ родственниковъ, у котораго я иногда, по близости къ городу, проводилъ день-два, былъ такимъ номинальнымъ сидѣльцемъ, обязаннымъ всячески ладить съ фиктивнымъ владѣльцемъ шинка. Для меня, мальчика, зависимость моего родственника-«сидѣльца» отъ христіанина — фиктивнаго «собственника», олицетворила собою идею голуса, порабощенія еврея не-евреемъ. Фиктивный хозяинъ жилъ за счетъ сидѣльца, пользовался большимъ кредитомъ, выпивая въ «собственномъ» заведеніи по своему усмотрѣнію и въ свое удовольствіе. Такого «хозяина» я никогда не видѣлъ трезвымъ. Но долженъ сказать, что не слышалъ я и ни объ одномъ случаѣ, когда бы христіанинъ — фиктивный собственникъ «шинка» злоупотребилъ своимъ юридическимъ положеніемъ въ томъ смыслѣ, чтобы лишить сидѣльца права продолжать свое «сидѣніе» и отнять у него заведеніе по всѣмъ правиламъ закона. Отношенія сидѣльца къ хозяину были совершенно гласны для окружающаго населенія, для кліентовъ даннаго шинка все было ясно и натурально, — фактическимъ хозяиномъ они признавали еврея-сидѣльца. Отнятіе у него шинка было бы въ глазахъ населенія явнымъ грабежомъ, недопустимымъ «мірской совѣстью». Крестьяне относились къ евреямъ шинкарямъ, попутно и лавочникамъ и содержателямъ баштановъ, съ полнымъ дружелюбіемъ. Несмотря на довольно большое число деревенскихъ евревъ («ишувниковъ»), пріѣзжавшихъ часто въ городъ, не сохранилось въ памяти у меня ни одного случая, когда бы такой ишувникъ жаловался на отношеніе къ нему со стороны крестьянъ и терпѣлъ бы отъ нихъ какія-либо утѣсненія.