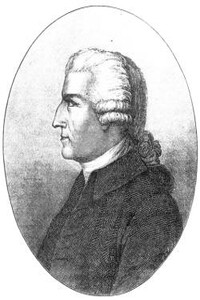Дѣла минувшихъ дней. Записки русскаго еврея. В двух томах. Том 1 | страница 37
Еврейская грамматика («дикдукъ») считалась не только ненужнымъ отвлеченіемъ отъ главнаго предмета, но и морально вреднымъ. Изученіе же Пророковъ считалось дѣломъ побочнымъ, которому посвящалась лишь иногда часть учебнаго дня послѣ обѣда, въ качествѣ развлеченія: считали, что послѣ обѣда ребенокъ не могъ бы сосредоточиться на изученіи Талмуда, которому посвящалось все утро, съ 9 часовъ до половины второго.
Такое отношеніе къ изученію Пророковъ не было случайнымъ. Какъ я убѣдился впослѣдствіи, оно было обычно во всей чертѣ осѣдлости. Этому пробѣлу я всегда придавалъ особенное значеніе; онъ служилъ впослѣдствіи неоднократно темой моихъ бесѣдъ съ раввинами, съ которыми я часто въ своей дѣятельности встрѣчался. Правда, пробѣлъ въ изученіи Пророковъ отчасти восполнялся тѣмъ, что по субботамъ и праздникамъ за чтеніемъ Торы въ синагогѣ слѣдуетъ чтеніе отрывка изъ Пророковъ («мафтиръ»). Но, само собою разумѣется, знаніе отрывковъ не замѣняетъ знакомства съ полнымъ текстомъ. Въ обученіи, въ умственномъ и душевномъ воспитаніи юношества упускается этотъ безконечный рессурсъ духовнаго и этическаго развитія, ужъ не говоря о красотѣ языка. При отсутствіи въ хедерномъ обученіи какихъ либо элементовъ поэзіи, изученіе Пророковъ могло бы восполнить этотъ недостатокъ и благотворно вліять на души дѣтей, проводящихъ сѣрые дни въ мрачной хедерной обстановкѣ. И какъ мало ни приспособлены меламеды къ задачѣ выявленія высокой мысли и красоты вѣчныхъ страницъ Пророковъ, въ дѣтскія души все же непремѣнно западали бы впечатлѣнія отъ изученія этой части Священнаго Писанія; эти впечатлѣнія хоть отчасти озаряли бы на всю жизнь матеріальное гетто, осмысливали бы то вѣчное служеніе обряду, на которое обреченъ былъ выходецъ изъ хедера. Только въ теченіе одного семестра («зманъ»), когда меня обучалъ самъ отецъ, изъ учебныхъ часовъ регулярно отдавалась нѣкоторая часть изученію пророка Исаіи съ комментаріями Малбима (Миръ — Лебушъ Кемпперъ).
Этотъ комментаторъ, къ сожалѣнію, основательно забытъ въ настоящее время; мнѣ самому больше не попадались въ руки изданія Пророковъ съ его блестящими поясненіями. Сквозь завѣсу талмудической эрудиціи и чисто догматическихъ изысканій, у этого комментатора яркими лучами проскальзывало глубокое пониманіе возвышающей душу поэзіи и сущности пророческой мысли, направленной къ проповѣди «мишпатъ» — правосудія и справедливости и «цдоко» — благотворенія, какъ высшихъ идеаловъ іудаизма. И эти лучи глубоко западали въ мою дѣтскую душу, и смутно таилось въ глубинѣ сердца чувство, что не одни внѣшніе обряды и не одно слѣпое повиновеніе предписаніямъ ритуала исчерпываютъ назначеніе быть евреемъ. Можетъ быть, опасеніе, что такія чувства могутъ укрѣпиться у дѣтей и ослабить у нихъ рвеніе къ обрядности, и объясняетъ причину равнодушія къ изученію Пророковъ въ хедерахъ.