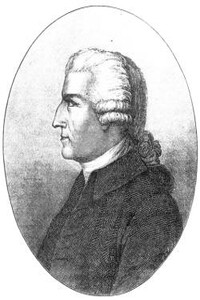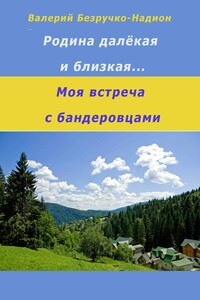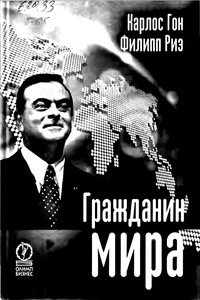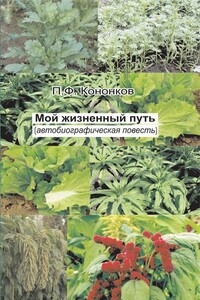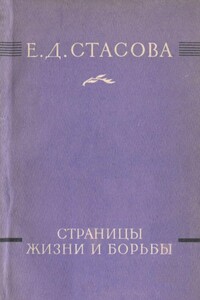Дѣла минувшихъ дней. Записки русскаго еврея. В двух томах. Том 1 | страница 30
Въ воспитаніи дѣтей господствовала исключительно хедерная система. Съ 5-6-лѣтняго возраста считалось обязательнымъ помѣстить мальчика въ хедеръ. Дѣвочекъ въ хедеръ не отдавали. Полтавскіе хедеры не отличались отъ общаго типа, но въ нихъ отсутствовалъ институтъ такъ называемыхъ «бегельферовъ», столь распространенный въ юго-западныхъ и литовскихъ хедерахъ. Преобладающая категорія хедеровъ была «дардеки», т. е. такіе, въ которыхъ дѣти обучались чтенію по еврейски, изучали Пятикнижіе и весьма мало Пророковъ («танахъ»), а до Талмуда не доходили. Большинство дѣтей на этомъ и кончало свое образованіе и поступало затѣмъ въ торговыя заведенія, въ качествѣ будущихъ приказчиковъ, или же ихъ отдавали въ обученіе ремеслу. Болѣе зажиточные евреи считали своей обязанностью проводить дѣтей и черезъ высшій хедеръ (геморе-хедеръ) и пріобщить ихъ къ знанію, хотя бы и неполному, Талмуда.
Я уже упомянулъ, что въ Полтавѣ функціонировало 4-классное училище типа закона 1844 года. Но оно было такъ мало популярно въ населеніи, что въ немъ обучалось весьма мало дѣтей мѣстныхъ жителей. Я не могу припомнить ни одного мѣстнаго семейства, которое помѣстило бы своего мальчика въ это училище: контингентъ учащихся въ немъ состоялъ главнымъ образомъ изъ пріѣзжихъ дѣтей.
Какой то рокъ тяготѣлъ надъ еврейскими казенными училищами. Устроенныя при министрѣ народнаго просвѣщенія гр. Уваровѣ, преисполненномъ лучшими намѣреніями пріобщить евреевъ къ общему просвѣщенію и увлекавшемся идеей, внушенной Лиліенталемъ, вести евреевъ по пути, проложенному нѣмецкимъ еврействомъ, начиная съ Мендельсона, — эти училища были осуждены на безсиліе, вслѣдствіе нежеланія евреевъ вступать на путь реформъ, навязывавшихся свыше и не соотвѣтствовавшихъ тогда внутренней потребности еврейства. Не имѣя ни своего Мендельсона, ни своего Бессели (друга и соратника Мендельсона), ни Гумпертца, Гомберга и др., еврейство не могло поддаться внушеніямъ сіятельныхъ и превосходительныхъ Мендельсоновъ изъ среды христіанскихъ вельможъ, хотя бы и одушевленныхъ благожелательными устремленіями, подъ вліяніемъ доморощенныхъ подражателей Мендельсона, вродѣ Лиліенталя, Мандельштама и др.
Характеренъ и вызываетъ на размышленія тотъ фактъ, что среди евреевъ мандельштамовскій переводъ Пятикнижія (первый переводъ на русскій языкъ) остался совершенно неизвѣстенъ. Правда, этотъ переводъ далеко не безупреченъ и ни въ какой мѣрѣ не можетъ идти въ сравненіе съ мендельсоновскимъ нѣмецкимъ переводомъ, обогащеннымъ комментаріями самого Мендельсона, и его друзей Вессели, Дубно, Гомберга. Правда и то, что этотъ переводъ не вызванъ былъ какой либо потребностью самого еврейства сѣверо и юго-западнаго края — оно не понимало русскаго языка. Но въ Малороссіи и въ Новороссіи этотъ переводъ могъ бы облегчить многимъ евреямъ, не прошедшимъ черезъ хедеръ, знакомство съ Пятикнижіемъ. И, тѣмъ не менѣе, я не припомню, чтобы въ дѣтствѣ гдѣ либо видѣлъ экземпляръ Мандельштамовскаго перевода. Объясненіе этому явленію можетъ быть дано тѣмъ, что обученіе Пятикнижію являлось тогда дѣломъ чисто механическимъ: дѣтямъ полагалось «знать» кое-что изъ Пятикнижія на еврейскомъ языкѣ, но понимать содержаніе не требовалось; и поэтому Библія Мандельштама, ненужная для хедернаго обученія (да и меламеды рѣдко читали по русски) — осталась чуждой и въ домашнемъ обиходѣ, даже у тѣхъ классовъ евреевъ, которые по древне-еврейски плохо понимали. Мандельштамовскій казенный переводъ, изданный на правительственныя средства, остался такъ же неизвѣстенъ этому классу евреевъ, какъ и переводъ на нѣмецкій языкъ Мендельсона, напечатанный еврейскимъ шрифтомъ.