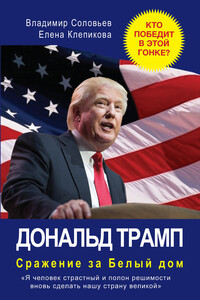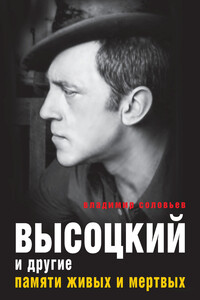Три портрета - Шемякин, Довлатов, Бродский | страница 62
Извини за молчанье. Теперь
ровно год, как ты нам в киловаттах
выдал статус курей слеповатых
и глухих - в децибеллах - тетерь.
Видно, глаз чтит великую сушь,
плюс от ходиков слух заложило:
умерев, как на взгляд старожила
пассажир, ты теперь вездесущ.
И так 80 строк, с проблесками, типа "перевод твоих лядвий на смесь астрономии с абракадаброй", либо с провалами, которые одинаково подчеркивают строкоблудие стихотворения в целом. В подобных случаях И.Б. удается иногда хотя бы остроумной, парадоксальной либо афористичной концовкой спасти стих, но этот кончается так же аморфно, как двигался до сих пор. Вот его вялое окончание:
Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.
Здесь срабатывает закон обратной связи: писателю скучно писать читателю скучно читать. Вообще, надеяться на воодушевление читателя там, где оно вчистую отсутствует у поэта, по крайней мере, наивно. Квалифицированный либо просто памятливый читатель может взять да и вспомнить какой-нибудь жанрово-сюжетный прецедент у того же поэта - скажем, потрясающее некрологическое стихотворение 73-го года, на следующий год после эмиграции, "На смерть друга", который, кстати, оказался жив-здоров. Тем более, какова сила поэтического воображения, навсегда закрепившая за ложным слухом все признаки реальности!
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.
Поэт такого масштаба, как И.Б. - лучший русский поэт не только моего поколения, но и нашего времени - не нуждается в снисходительной критике, тем более один из его самых неотвязных, навязчивых сюжетов последнего времени изношенность жизни, ее обреченность на повтор, упадок и распад. Своим отношением к жизни поэт сам подсказывает читателю, как относиться к его поэзии:
Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
не все уносимо ветром, не все метла,
широко забирая по двору, подберет.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, где угол проникнуть лучу не даст,
и слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Этот "апофеоз частиц" вполне выдерживает сравнение с ранними воплощениями того же сюжета - скажем, с поразительными метаморфозами живого в мертвое, а мертвого в ничто в "Исааке и Аврааме" 1963 года. И.Б. и сам устраивает себе экзамен и часто с блеском его выдерживает, сочиняя в каждое Рождество по стихотворению - вот последняя строфа одного из двух, помещенных в его "шведском" сборнике: