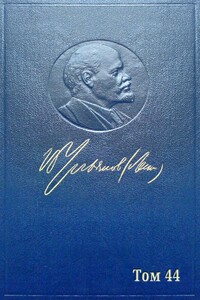Три портрета - Шемякин, Довлатов, Бродский | страница 56
Чего, впрочем, удивляться. Пытался же он зарубить "Ожог" Аксенова, написал на него минусовую внутреннюю рецензию. Как-то я ему сказал - по другому поводу - что он не единственный в Америке судья по русским литературным делам. "А кто еще?" Я даже растерялся от такой самонадеянности, чтобы не сказать - наглости. Тут только до меня дошло, что передо мной совсем другой И.Б., чем тот, которого я знал по Питеру.
Разговор этот состоялся в гостинице "Люцерн" на 79-ой улице в Манхэттене, куда И.Б. пришел к нам второй и последний раз.
Но сначала о первой встрече.
Осень 1977 года. Мы только из России, полные надежд и растерянные. Ося явился к нам на следующий день, расцеловал, приветил, сказал, что беспокоился, когда прочел про нас в "Нью-Йорк Таймс" - как бы нас не замели. Свел в мексиканский ресторан, чьи блюда острее бритвы (обхожу с тех пор стороной), расспрашивал про совдепию и про общих знакомых, хотел помочь в журнально-издательских делах. Я отказался, почувствовав, что предложенная помощь - способ самоутверждения для него. Держал фасон, хвост пустил павлином. Было бы перед кем! Мы были тогда на нуле, он - старше нас на пять лет своего американского опыта. С верхней полки стенного шкафа вылетел в облаке пыли эмигрировавший вместе с нами кот Вилли, чтобы пообщаться со старым знакомым. И.Б. поморщился, будто мы несем ответственность за гостиницу, куда нас поселили на первых порах. Однако Вилли был им приласкан, кошачье имя вспомянуто. Кошек он всегда любил больше, чем людей.
Вторая встреча - сплошь напряженка, особенно после "А кто еще?" Будто в его власти давать добро на существование, казнить и миловать. Помню, сказал ему что-то о санкционированной литературе - все равно кем. Даже если по сути я был прав, человечески - нет. Когда Ося стал массировать себе грудь в области сердца, я ему не поверил, а теперь сам сосу нитроглицерин время от времени. Он взывал к жалости, несколько раз сказал свое любимое "мяу". Я замолчал, дав понять, что говорить нам больше не о чем. Обозлился на авторитарность, хотя та шла от прежней униженности, а хвастовство - от комплексов. Мания величия как следствие советской мании преследования, которую он описал в "Горбунове и Горчакове".
Отчасти общению мешали присутствие Лены и самцовость И.Б. Не буквальная, конечно - сублимированная. Не эта ли самцовость была причиной его негативной реакции на некоторые сочинения своих соплеменников? Либо это было его реакцией на само чтение? В "Романе с эпиграфами" я написал, что поэт он гениальный, а читатель посредственный. В черновике стояло "хуевый".