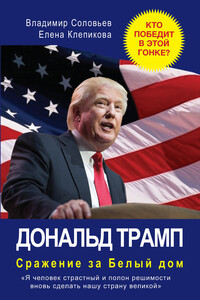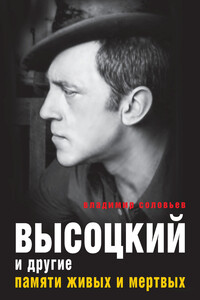Три портрета - Шемякин, Довлатов, Бродский | страница 57
Легче понять прозаика, который препятствует изданию книги собрата по перу. Воронели мне рассказывали, что после рекламного объявления о том, что в ближайшем номере журнала "22" будет напечатан роман Владимира Соловьева "Не плачь обо мне...", они получили письмо от Игоря Ефимова - почему печатать Соловьева не следует. Взамен он предлагал собственный роман. Это как раз понятно. Но И.Б. ведь не прозаик - ни Львов, ни Аксенов ему не конкуренты.
В том-то и дело, что не прозаик! Один из мощнейших комплексов И.Б. Отрицание Львова или Аксенова - частный случай общей концепции отрицания им прозы как таковой. И это отрицание проходит через его эссе и лекции, маскируясь когда первородством поэзии, а когда антитезой - "Я вижу читателя, который в одной руке держит сборник стихов, а в другой - том прозы..." Спорить нелепо, это разговор на детском уровне: кто сильнее - кит или слон?
А если говорить о персоналиях, то Львов и Аксенов - подставные фигуры: Набоков - вот главный объект негативных эмоций И.Б. Представляю, какую внутреннюю рецензию накатал бы он на любой его роман. Здесь, в Америке, бывший фанат Набокова превратился в его ниспровергателя: с теперешней точки зрения И.Б., слава Набокова завышенная, а то и искусственная. Я пытался ему как-то возразить, но И.Б. отмахнулся с присущим ему всегда пренебрежением к чужой аргументации. Его раздражает слава другого русского, которая не просто превосходит его собственную, но достигнута средствами, органически ему недоступными. Комплекс непрозаика - вот импульс мемуарной и культуртрегерской литературы самого И.Б.
Прислушаемся к его собственным признаниям, хоть и закамуфлированным под третье лицо: посвященное Цветаевой эссе "Поэт и проза" - своего рода ключ к его собственной эссеистике. Конечно, Цветаева - не маска И.Б., она в этом очерке сама по себе, но одна из немногих, с кем он ощущает прямое родство (все другие - мужи: Мандельштам, Баратынский, Оден).
В чем сходство И.Б. с ней? В кочевой судьбе, биографии и опыте, отстающих, как он пишет, от инстинкта и предвосхищения. Несомненно - в стилистике, в приемах, в спресованной речи, в монологичности как результате одиночества и отсутствия собеседника. И.Б. ничего не выдумывает, не подтасовывает, но замечает в Цветаевой то, что близко и внятно именно ему самому; другой обнаружит в ней иное. Подмечает, к примеру, "нотку отчаяния поэта, сильно уставшего от все возрастающего - с каждой последующей строчкой - разрыва с аудиторией. И в обращении поэта к прозе - к этой априорно "нормальной" форме общения с читателем - есть всегда некий момент снижения темпа, переключения скорости, попытки объясниться, объяснить себя".