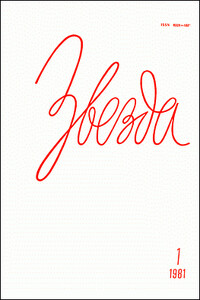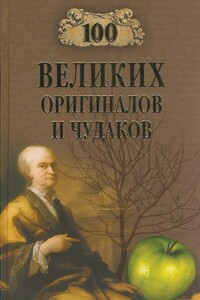Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа к детям | страница 61
У отца всегда был собственный взгляд на историю. Он глубоко изучал философию, читал и марксистов, и их оппонентов, считал сталинский террор естественным продолжением революции. Мне отец говорил, что это трезвое понимание происходящего спасло ему психику. Он встречал в тюрьме убежденных революционеров, бывших политкаторжан, преданных партийцев, которые не в силах были осознать случившегося, считали, что к власти пришли фашисты, что Сталин обманут, — психика этих физически здоровых, крепких людей не выдерживала, они сходили с ума.
О тюрьме и лагерных годах отец мог рассказывать бесконечно. Однако пока я была еще ребенком, он щадил мою неокрепшую психику и о многом умалчивал.
Отец вспоминал, что когда он попал из тюрьмы в лагерь, самым сильным его впечатлением были женщины: два года в тюрьме он не слышал женского голоса. Лагерные «красавицы» ругались отборным матом, а он ловил лишь «райскую музыку» тембра их голосов и интонаций.
От тяжелых работ в лагере отца спасли урки. Он был хорошим рассказчиком, умел уважать собеседника, кем бы тот ни был. Урки дали отцу кличку «белый лебедь» и вменили ему в обязанность каждый вечер, как Шехерезаде, рассказывать историю с продолжением. Сплетая в причудливую сеть Брет-Гарта, Купера, Скотта, Джека Лондона, Франса, Грина и даже Лакло, он много месяцев развлекал «воров в законе» немыслимыми приключениями. Урки, в свою очередь, демонстрировали ему свое профессиональное умение незаметно выкрасть из любого кармана собеседника все что угодно. Отец искренне поражался их фокусам, а им это льстило. Но главное — за увлекательные рассказы уголовники выполняли за него норму на строительстве железной дороги и на лесоповале. Физически некрепкий, отец не выдержал бы этой работы.
Сильные, ниже тридцати градусов, морозы дали о себе знать: отец заболел воспалением легких. Его положили в лазарет. От неминуемой смерти там его спасла вольнонаемная, работавшая, кажется, в столовой. Отец всегда вспоминал о ней с благодарностью и ласково называл Шурочкой. Она подкармливала больного, выхаживала его и искренне привязалась к нему. А когда отец пошел на поправку, Шурочка добилась, чтобы его оставили при больнице, если я не ошибаюсь, учетчиком.
Я училась в восьмом классе, когда отец впервые сказал мне:
— Придет время, и стыдно будет не тем, кто сейчас в тюрьме и ссылке, а всем, кто это допустил. Нас будут считать героями… Ты еще доживешь до этих дней.
Однако всплеск «оттепели» удалось захватить и отцу. Он радовался прорвавшейся правде, но говорил, что пока это лишь узкая щелочка, в которую просачивается лишь самая малость. «Один день Ивана Денисовича» Солженицына он всячески приветствовал, но считал литературой, хотя и правдивой. «Лагерная жизнь, — говорил он, — во сто крат страшнее». Остальные произведения Солженицына отцу прочесть не удалось. Отец намекал, что в его голове живет законченный роман о прожитых годах. Однако написать его он так и не решился — не верил, что прежние времена не вернутся, осторожничал. В его архиве остались лишь фрагменты, наметки, отдельные абзацы, оборванные на самом интересном месте.