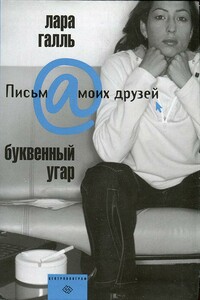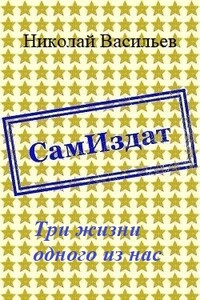Как кошка смотрела на королей и другие мемуаразмы | страница 25
Как она руками-то махала!
В этом эпизоде ничего особенно фарсового нет, но хочется помянуть очень хорошего человека и его колоритную реплику.
Но тут, в точном соответствии с диагнозом, поставленным Женей Пермяковым, нужно отступить назад. В советское время у большинства школьников так называемые уроки труда делились по гендерному признаку: мальчиков учили (якобы) столярному и слесарному мастерству, а девочек (по-видимому, тоже якобы) так называемому домоводству, а именно умению приготовить какую-то несложную еду и сшить, например, фартук. Людей, которым эти уроки пригодились во взрослой жизни, я лично не встречала, хотя не исключаю, что они существуют. Но в моей школе девочкам повезло: нас учили машинописи. В одном из классов на столах стояли пишущие машинки, изготовленные в 1930‐е, а то и в 1920‐е годы (кажется, даже легендарный «Ундервуд» там был), причем машинки были не только с русским, но и с латинским шрифтом (напоминаю для молодого поколения: если нужно было вставить в русский текст, напечатанный на машинке, английское или французское слово, приходилось вынимать лист бумаги из «русской» машинки и вставлять его в машинку «иностранную», а потом возвращаться обратно). И нас с пятого класса учили печатать, причем сначала по-французски, а уж потом, через пару лет – по-русски. Все как полагается: руки закрыты специальной шторкой, и печатать надо вслепую, всеми десятью пальцами. Когда-то я это умела (хотя опыт показывает, что десять пальцев совершенно не нужны). Ну вот, а раз уж мы были «машинистки», то и «производственную практику» во время летних каникул нам предлагалось найти себе по специальности. И поскольку Записки отдела рукописей Ленинской библиотеки печатались в «папином» издательстве «Книга», то по папиной просьбе Мариэтта Омаровна Чудакова устроила меня на машинописную практику в этот самый отдел. Практиковалась я под началом спокойной и уютной пожилой машинистки (кажется, Нины Николаевны) и действительно что-то печатала. От этой практики – мое знакомство с Мариэттой Омаровной и с Саррой Владимировной Житомирской, которая в те годы отделом рукописей руководила. Позже обеих из отдела «выдавили», но, видимо, с их легкой руки я через два десятка лет получила от отдела рукописей очень почетный и ответственный заказ: подготовить к печати посвященные первым двум годам Французской революции (1789–1790) отрывки из путевого дневника княгини Натальи Петровны Голицыной, той самой, которая считается прототипом пушкинской «Пиковой дамы». Они вышли в Записках отдела рукописей в 1987 году, а в 1988‐м во «Временнике Пушкинской комиссии» я напечатала статью «Записки „пиковой дамы“», где попыталась придать научную форму тому, что поразило меня в этих самых записках: возникающий при знакомстве с ними «образ автора» в целом совпадает с тем, что мы знаем о княгине Наталье Петровне из мемуаров (властная, сильная), но тема карт в ее путевом дневнике далеко не на первом плане, а к участию в jeu de la Reine она как иностранка вообще допущена быть не могла да и с реальным графом Сен-Жерменом вряд ли была знакома. Вся эта долгая предыстория – к тому, что где-то между этими двумя датами (1987 и 1988) меня пригласили рассказать о «записках пиковой дамы» на конференции в московском музее А. С. Пушкина. А там среди слушателей были два прекрасных историка: Натан Яковлевич Эйдельман и Андрей Григорьевич Тартаковский. И вот уже после доклада, так сказать в кулуарах, Эйдельман и еще кто-то из присутствующих похвалили доклад. На что Тартаковский возразил: «Да что доклад! Как она руками-то махала!» – и эту его бессмертную фразу я вспоминаю всегда, когда сейчас, в эпоху зума и видео на ютубе, вижу собственные выступления. Увы, руками размахиваю по-прежнему (хотя в момент говорения этого совершенно не сознаю), а если бы мне их связать, думаю, не смогла бы сказать ни слова.