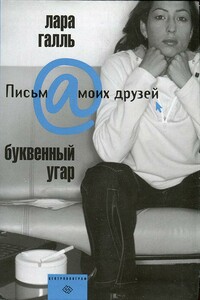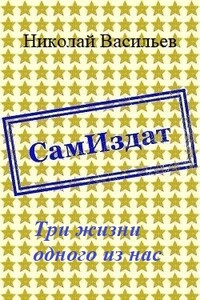Как кошка смотрела на королей и другие мемуаразмы | страница 26
А с Андреем Григорьевичем мы потом, осмелюсь сказать, подружились. Ужасно не хватает его – как и Вацуро, и Эйдельмана: спросить, посоветоваться, похвастаться публикацией…
Саша, не увлекайся!
Следующий эпизод – короткий. После того как вышла «Эстетика раннего французского романтизма», Александр Абрамович Аникст задумал выпустить все в той же «серии с мужиком» книгу Жермены де Сталь «О литературе», а если цитировать полное название «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями». Аникст выступал в издании в качестве так называемого «паровоза» – то есть автора вступительной статьи, а мне поручил заняться всем остальным – то есть переводом и примечаниями, а перед началом работы пригласил к себе домой – познакомиться и обсудить будущее издание. Было это, видимо, году в 86–87‐м. А надо сказать, что, хотя Аникст 1910 года рождения и, следовательно, в начале 1980‐х ему было уже за семьдесят, это не помешало ему, к восторгу и/или негодованию литературной тусовки, уйти от жены, с которой он прожил всю жизнь, к женщине лет на двадцать моложе. Впрочем, спустя, кажется, не очень долгое время он вернулся назад и, по легенде, сказал о жизни вне супружеского дома: «Очень хорошо, но утомительно!» Я об этом слышала без подробностей, но если бы не слышала вовсе, то не обратила бы внимания на одну реплику жены Александра Абрамовича. Он провел меня в свой кабинет, где, как и полагается, стены были до потолка уставлены книжными полками. В ходе разговора он оживился, решил показать мне какую-то редкую книгу, стоявшую на самом верху, и, чтобы достать ее, встал на стремянку. Жена в этот момент проходила по коридору и, бросив взгляд в кабинет, сказала: «Саша, не увлекайся!»
Это была наша единственная встреча. Дальше я с большим удовольствием занялась переводом и комментариями (эта книга Сталь не так известна, как «О Германии», до сих пор на русский не переведенная, но основная идея о существовании в Европе двух литератур – северной и южной – в ней уже присутствует). Вступительную статью Аникст написал, но до выхода книги (1989), к сожалению, не дожил: он умер годом раньше, и его фамилия на обороте титульного листа в траурной рамке.
Топоров читает Балланша
Недлинный эпизод, в котором я опять выступаю в роли благоговеющей. В вышеупомянутую «Эстетику раннего французского романтизма» я включила отрывки из двух сочинений философа Пьера-Симона Балланша, причем одного из них, раннего (1801 года) трактата «О чувстве», не было в московских библиотеках (ни в Ленинке, ни в Иностранке), а у меня (настоящее чудо, которое совершилось благодаря еще одному доброму знакомому моего папы из Ленинской библиотеки, заведующему отделом иностранного комплектования Борису Петровичу Каневскому) имелась его ксерокопия. И вот уже после выхода «Эстетики» мне позвонил Владимир Николаевич Топоров (с которым мы не были знакомы) и попросил разрешения прийти ко мне домой и в течение пары часов познакомиться с французским текстом трактата. Он именно настаивал на том, что хочет не взять ксерокопию домой (что я, конечно, предложила), а просмотреть ее в гостях. Как нетрудно догадаться, меня перспектива такого визита потрясла: Топоров, знаток санскрита и славянских древностей, один из основателей московско-тартуской школы и изобретатель понятия «петербургский текст», придет ко мне читать Балланша. Я навела порядок на своем письменном столе, велела всем домашним затаиться и вести себя как можно более тихо. Пришел Топоров, сел за мой стол, попросил чаю и два часа за закрытой дверью читал Балланша. Потом вежливо поблагодарил и ушел. Как сказал немножко по другому поводу ослик Иа-Иа, герой произведения, в котором, кажется, описаны все варианты коммуникативных ситуаций, «беседа не состоялась. Должен говорить сперва один, потом другой. По порядку. Иначе это нельзя считать беседой». В нашем случае не говорил ни один. А что я должна была сказать? Спросить у Владимира Николаевича, как ему понравился Балланш? Мне было неловко морочить ему голову своими расспросами. А сам он был человек неразговорчивый. Но памятливый. Отдельный оттиск статьи «Еще раз о связях Пушкина с французской литературой (Лагарп – Буало – Ронсар)», опубликованной в 1987 году в журнале «Russian Literature», он в 1991 году подарил мне с надписью «Вере Аркадьевне Мильчиной с благодарностью и добрыми пожеланиями». Благодарность, конечно, в первую очередь за возможность прочесть Балланша. Но немножко, вероятно, и за то, что не приставала к нему с разговорами.