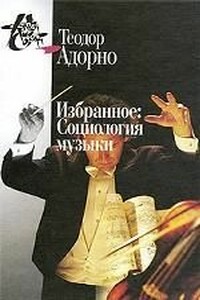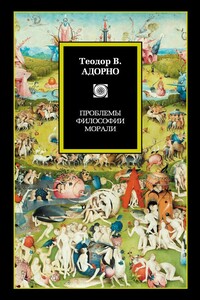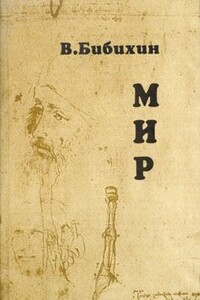Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 27
26. English spoken[19]. Во времена моего детства пожилые дамы-англичанки, с которыми мои родители поддерживали отношения, часто дарили мне книги: богато иллюстрированные произведения для юношества и даже миниатюрное издание Библии в зеленом сафьяновом переплете. Все книги были на родном языке дарительниц – о том, владел я им или нет, никто из них не задумывался. Непривычная недосягаемость книг, атаковавших меня своими иллюстрациями, крупными заголовками и виньетками, но написанных словами, которых я разобрать не мог, наполняла меня верой, что в случае этих книг речь вообще шла не о книгах как таковых, а о некой рекламе, возможно, о рекламе машин, подобных тем, что производил на лондонской фабрике мой дядя. С тех пор как я живу в англоязычных странах и понимаю английский, осознание это не только не угасло, но и усилилось. У Брамса есть Девичья песня{49} на слова Гейзе{50}, в ней такие строки: «O страдание, ты вечно суще! / Блаженство возможно лишь вдвоем». В самом популярном американском издании эти строки переведены так: «O misery, eternity! / But two in one were ecstasy». По-старинному страстные ключевые слова оригинала превратились в клише, типичные для шлягера и его превозносящих. В их ярком электрическом свете блистает рекламный характер культуры.
27. On parle français[20]. Насколько тесно переплетаются друг с другом сексуальное начало и человеческая речь, увидит тот, кто примется за чтение порнографической литературы на иностранном языке. При чтении де Сада в оригинале словаря не нужно. Самые завуалированные выражения, обозначающие непристойности, знаний о которых не дает ни школа, ни родительский дом, ни читательский опыт, понимаешь уверенно, как лунатик, подобно тому, как в детстве туманнейшие высказывания и наблюдения за проявлениями половой жизни складывались в верное представление о ней, – словно плененные страсти, окликаемые по имени этими самыми словами, проламывают как крепостную стену собственного порабощения, так и стену слепых слов и агрессивно, сокрушительно бьют в самое средоточие смысла, подобного им самим.
28. Paysage[21]. Недостатком американского ландшафта является не отсутствие исторической памяти, как того требовала бы романтическая иллюзия, а скорее то, что в нем не видно следа, оставленного человеческой рукой. Это относится не только к отсутствию пашен, к лесам, не знающим вырубки и часто похожим на низкие заросли, но прежде всего к дорогам. Они непременно оказываются словно пробитыми через ландшафт, и чем шире и ровнее они, тем бессвязнее и агрессивнее смотрится их блестящая лента в сравнении с очень уж заросшим окружением. Они ничего собой не выражают. Точно так же, как не знают они ни следов ботинок и колес, ни мягких пешеходных дорожек на обочине, обозначающих переход к растительности, ни тропок, ведущих вниз в долину, в них нет и того мягкого, смягчающего, неугловатого, что есть в вещах, к которым были приложены человеческие руки или непосредственные орудия ручного труда. Всё выглядит так, будто никто ни разу не погладил этот ландшафт по голове. Он безутешен и безотраден. Этому соответствует и способ его восприятия. Ведь то, что способен увидеть всего лишь брошенный из несущегося автомобиля взгляд, он удержать не в состоянии, и увиденное исчезает бесследно – так же, как и на увиденном не остается никакого следа.