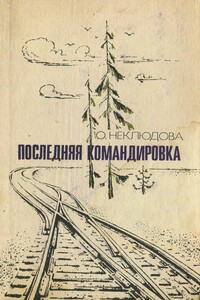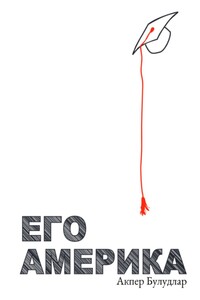Три персонажа в поисках любви и бессмертия | страница 110
Удивительнейшим свойством характера сэра Полкрэва, отразившимся в его детище, было соединение двух казалось бы взаимоисключающих черт. С одной стороны, со страстью, свойственной одиноким стареющим книжникам, сэр Полкрэв ненавидел современность и будущее, тянущееся за ней хвостом. В любом, самом невинном проявлении настоящей и наступающей жизни чудилась этому седеющему человеку с обрюзгшим телом и гусиным подбородком страшная опасность для мира, к которому он привык, который ценил, и главной чертой которого была культура. А главными хранителями культуры были такие люди, как он сам, и даже – почему бы нам здесь не выразить это его чувство с доскональной ясностью – просто-напросто он сам. Культура же рождалась от истории, бывшей ей матерью и пьедесталом. «Почему изучаем мы историю?», – проповедовал он. А потому, что все, что ни есть в мире – это история. Ничего нет такого, что не было бы историей. Мы все ее продукт и ее дети. Все, что нас окружает, – чашка, вилка, одеяло – это история, а вне нее только мрак и хаос, варварство и слякоть, болезни, войны и смерть. Стоит забыть историю лишь на миг, и мы не сможем более разговаривать между собой, ибо наша вежливость в обращении с соседом и наша способность уладить с ним отношения, и самая наша речь – все это есть продукты истории. Вот вы идете по улице, а навстречу вам идет человек. Вы делаете шаг в сторону, чтобы пропустить его. Он в ответ поступает так же, чтобы уступить вам взаимно дорогу. Вот это и есть история. Вне истории эти два человека на улице не будут знать, что им делать. Они столкнутся в замешательстве, обругают друг друга, и начнется вражда, которую никто не способен будет остановить. Вся история человечества и нужна для того лишь, чтобы эти два человека смогли спокойно разминуться, чтобы эта встреча двух незнакомых друг другу людей не окончилась кровопролитием. Ежесекундное знание истории удерживает человечество на краю губительной пропасти.
Так учил сэр Полкрэв. Был ли он гуманистом? В некотором смысле несомненно был. Но только в некотором. Ибо гораздо чаще, чем о том или ином отдельно взятом, одиноком человеке с именем и лицом, единожды рожденном и умершем уже или предназначенном умереть – как это свойственно гуманистам, – говорил он о каком-то вообще человеке, условном, анонимном, без лица, а еще чаще не о человеке, а о человечестве, которое приобретало в его устах какой-то неожиданно неприятный желтоватый оттенок и кисловатый привкус. Никто из слушавших его, и менее всех Павел Некревский, не расположен был воображать себя частью этого анонимного скопления народа, по отношению к которому сам сэр Полкрэв занимал удаленную и внешнюю позицию, с одной стороны, наблюдателя, воспитателя и дрессировщика, а с другой, хранителя огня, разочарованного меланхолика и мага. Вернее будет сказать, что сэр Полкрэв был не столько гуманистом, сколько мизантропом. В негативном отношении его к современности был едва ощутимый привкус предстарческой брезгливости. А между тем мысль его была по-прежнему ясной и честной, отсекающей ненужное, не то чтобы безапелляционной или прямолинейной, но, скажем так, самобытной и целеустремленной. А теория его была независимой, умно и тонко выстроенной, как сложное по конструкции здание, как та же оксфордская готика, четкая и вертикальная как гребенка. Да, было в его мысли что-то от расчески, не оставляющей ни единого спутанного волоса, ни одного неровного пробора, нелогичного аргумента, непоследовательного довода или противоречивого вывода. «Смерть сбивчивости и неясности!» – казалось начертано было у него на лбу. Любовь к истине оживляла его сероватые черты лица. «Пока я все не понял в предмете, о котором пишу, до самого последнего конца, я никогда не берусь за перо». Ибо он верил, что у каждого предмета был свой конец.