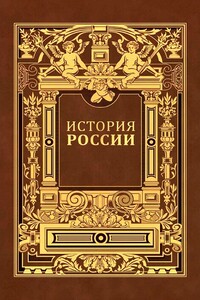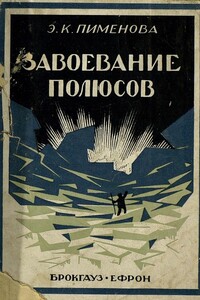Тысячеликая мать. Этюды о матрилинейности и женских образах в мифологии | страница 43
Интермедия – этнографические параллели: Новая Гвинея, Юго-Восточная Азия и Океания
Этнографические аналоги таких форм группового самосознания мы, вероятно, можем видеть в традиционных культурах папуасских племен Новой Гвинеи. Численность некоторых племен, говорящих на отдельных языках, составляет там именно несколько сот человек. Наряду с этим на Новой Гвинее имеются крупные лингвистические группы, так называемые «племена», насчитывающие по нескольку десятков тысяч человек. Таковы, например, энга, дани, мелпа, живущие в центральной и восточной части Новогвинейского нагорья. Этнические формы группового самосознания сопряжены в этих районах со значительно более дробными, чем лингвистические общности, социумами, то есть группами общин, деревень, кланов. Это не должно нас смущать, поскольку именно в центральной и восточной частях нагорья Новой Гвинеи в культурах папуасов имеются очевидные следы воздействия австронезийских культур: возделывание сладкого картофеля (батата), развитая система ритуального обмена, мужских союзов, посредничества в регуляции внутренних конфликтов (see eg. Heider 1970: 101–104, 310–313; Brown, Brookfeld 1959). Для восточной же части нагорья, где не возделывается высокопродуктивный батат, характерны этническая дробность, высокая интенсивность военных конфликтов и замкнутость общин (см., напр.: Feil 1987: 62–89; Berndt 1966). Здесь, по замечанию австралийского антрополога Дж. Меджита, в традиционных условиях выход за пределы территории родной деревни чаще всего был равноценен самоубийству. Об этом же пишет М. Мид в отношении племени мундугумор (Mead 1935: 173).
Сравнимые с новогвинейскими формы этнического партикуляризма были широко распространены в традиционных культурах горных районов Юго-Восточной Азии, у даякских племен Калимантана, «монтаньяров» Индокитая, игоротов Филиппин и других этнических групп. Указанные районы, так же как и Новая Гвинея, входили в обширный ареал, в пределах которого была распространена охота за головами. Интересный пример этнической замкнутости привел мне в частной беседе на конференции «Иерархия и власть в истории цивилизаций» летом 2002 г. Джеймс Онгкили, племянник верховного вождя народа кададзан из малайзийского штата Сабах. Там отдельные племена будущей народности кададзан (более известной под именем «дусуны») вели – до того, как усилиями британской администрации вооруженным конфликтам и охоте за головами был положен конец, – относительно изолированное существование. Представители разных племен не могли свободно путешествовать по территории чужих племен. После «замирения» племен и введения обязательного школьного обучения люди разных племен стали посещать территории друг друга и с удивлением обнаружили, что все племена обладают, по сути, сходной культурой и обычаями. Это осознание послужило одной из основ создания народа кададзан, в настоящее время обладающего общностью самосознания, но сохраняющего подразделение на племена и локально-племенные культурные различия.