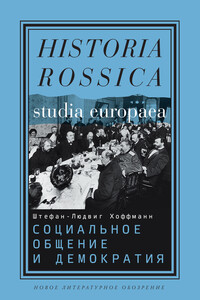Иррациональное в русской культуре. Сборник статей | страница 63
У этих материалов есть еще одно важное измерение. Литературные сочинения Квашнина-Самарина, его письма, прошения и жалобы – интересный источник по истории русской литературы 1830–1880-х годов, позволяющий увидеть влияние некоторых хорошо известных феноменов «высокой» литературы не только на уровне «массовой словесности», но и на уровне совершенно инструментальных, делопроизводственных текстов, которые этот литератор-дилетант отправлял в III Отделение.
Сразу же после первых допросов Квашнина-Самарина чиновники III Отделения столкнулись со сложной проблемой: как квалифицировать их подопечного – как политического преступника или как сумасшедшего? В первой половине XIX века не существовало единой государственной политики в отношении тех, кого признавали сумасшедшими или подозревали в этом. По мнению Лии Янгуловой, это имело два практических последствия: «<…> если помешательство некой персоны не представляло непосредственной опасности для окружающих <…> была большая вероятность избежать каких-либо административных санкций (инкарцерации, изменение гражданского статуса)»[208]. Однако в то же самое время несовершенства законодательства и неопределенность понятия «душевная болезнь» вели к усилению полицейской власти и к слишком широкой интерпретации помешательства, когда самые разные проявления не укладывающегося в рамки нормы поведения считали симптомами душевной болезни[209].
Это наблюдение можно развить на материале нашего дела. В первом же докладе государю, за которым воспоследовала высочайшая резолюция о ссылке в Новгородскую губернию, Бенкендорф охарактеризовал Квашнина-Самарина следующим образом: «По частным о нем сведениям оказывается, что он весьма слабоумен и что действия его иногда обнаруживают даже некоторый род временного помешательства»[210].
Однако ни об освидетельствовании, ни об ином способе проверки «слабоумия» или «помешательства» Квашнина-Самарина речи не идет: использованные Бенкендорфом слова выступают в его докладе как свидетельства отсутствия в поступке Квашнина-Самарина явной злонамеренности, а уж тем более – разветвленной сети заговора. Однако при этом слова «временное помешательство» и «слабоумие» должны были сигнализировать о том, что такого непредсказуемого человека следует, по крайней мере на некоторое время, удалить из Петербурга.
Спустя полтора года Квашнин-Самарин обращается в III Отделение с просьбой оказать ему помощь в устройстве на службу, и Бенкендорф оставляет на полях прошения карандашную пометку: «Можно о нем написать в Новгород. Губ. – Он